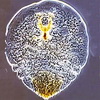Является ли социум эволюционной адаптацией?

Обзорная статья С.В. Попова посвящена проблеме эволюции социальной организации в мире животных. Эта статья не столько обобщает имеющиеся на сегодняшний день идеи эволюционистов на этот счет, сколько структурирует эти идеи. Автор называет пять основных вопросов, касающихся эволюции общественной организации. Эти вопросы поставлены в рамках теории естественного отбора и адаптивного (приспособительного) характера социальной организации:
1. Имеется ли связь между социальной организацией и эволюцией животных, или, переиначивая эти слова, идет ли эволюция социальных структур однонаправленно с морфологической эволюцией таксонов?
2. Что дает социальная организация членам организованной группы – дает преимущество отдельным членов социума, или всем членам группы, или же способствует более широкому распространению генов?
3. Что подвергается отбору, организм или группа организмов? Действительно, ведь социальная структура – это свойство группы, а не отдельного организма, а отбираются все же отдельные носители признаков, то есть особи.
4. Почему организованные группы адаптивны?
5. Какие признаки физиологии и морфологии, формирующие социальные связи, реально «записаны» в генах?
На первый из этих вопросов обычно отвечают отрицательно. Между прогрессивной эволюцией и сложностью социальной организации связи не обнаружено. Сложная социальная организация свойственна различным таксономическим группам – и низшим, и высшим. И напротив, социальная организация близких видов (например, среди полевок и песчанок) принципиально различается. Среди полевок имеются и представители моногамной организации семьи, и колонии с практически свободным скрещиванием.
Три следующих вопроса связаны между собой. Допустим, мы признаем, что тот или иной вид социума дает группе некое преимущество при отборе. В результате отбора повышается благополучие вида. Но тогда мы обязаны признать, что единицей отбора выступает целая группа. То есть мы признаем существование группового отбора. Одним из видов группового отбора может быть родственный отбор. Родственный отбор направлен на распространение определенного набора генов, циркулирующего среди родственной группы. Те или иные типы социальных контактов – агрессия, взаимопомощь или выбор полового партнера – могут быть направлены именно на реализацию родственного отбора. Тогда встает вопрос, как родственники узнают друг друга? И опять же, если мы допустили адаптивность социальной организации, то вопрос, почему социум адаптивен, превращается в вопрос, как свойство группы стало объектом эволюции.
Ответы на эти три вопроса предварены грозным «ЕСЛИ»: если мы признаем, что социум адаптивен. Оснований для признания, как отмечает С.В.Попов, особых нет. То есть нет надежных фактов, свидетельствующих о приспособительном значении социальности. Правда, нет и обратных фактов. Но так или иначе, каждый сторонник приспособительного характера социальности обязан помнить, что база его рассуждений сугубо теоретическая.
А если отступиться от позиций группового отбора и принять только индивидуальный отбор? Тогда каждый из членов группы – и доминант и аутсайдер – должен получать какое-то преимущество от того, что он живет не сам по себе, а в социуме. То есть и доминантная и аутсайдеровская стратегии поведения должны быть адаптивны. Яркий пример адаптивности сразу двух противоположных стратегий поведения демонстирируют жуки из группы скарабеев (См.: Бойцы и проныры имеют равные шансы на успех в личной жизни. «Элементы», 15.11.06).
Кроме того, можно считать, что при индивидуальном отборе социализация не имеет каких-то особых приспособительных свойств. Просто социальная структура является побочным продуктом приспособительного поведения особей. Например, у обезьян бонобо в периоды пищевого обилия социальная группа распадается, в скудные периоды образуется иерархически организованная группа. Или у мышей, когда холодно, животные собираются вместе, а когда тепло, животные разбегаются. Другими словами, социальная структура складывается в ответ на внешние изменения среды. Вместе с тем, как справедливо отмечает С.В.Попов, известно немало примеров очень устойчивых социальных структур у различных видов животных.
И в случае принятия адаптивности социальной структуры, и в случае ее отрицания необходимо ответить на пятый вопрос: какие признаки в морфологии и физиологии способствуют формированию социальной структуры и как они кодируются в геноме. С.В. Попов считает этот вопрос центральным для понимания эволюции социальности. Действительно, если знать, как в организме биохимически обслуживаются социальные контакты, то станет понятно, какими путями складывается социальное поведение и как оно может изменяться. С.В.Попов называет такие первичные пути формирования социальности «проксимальными».
Известно, что поведение в целом контролируется нервными и гуморальными регуляторами. Это означает, что именно они лежат в основе создания и поддержания социальных структур. Так, гормоны глюкокортикоиды – это ведущие гормоны полового поведения. Высокая чувствительность и реактивность по отношению к этим гормонам вызывает появление сложного полового и как следствие социального поведения у мышей. Таким же чутким регулятором у этой и других групп животных выступают гормоны окситоцин и вазопрессин: их выделение вызывает формирование личных привязанностей, а это, в свою очередь, определяет формирование моногамной или полигамной структуры семей у полевок. Открыта также важная роль расположения и количества рецепторов дофамина в нейронах головного мозга (см.: Любовь и верность контролируются дофамином, «Элементы», 7.12.05) в регуляции социального поведения. Так что нам сейчас известны некоторые из путей регуляции поведения животных, которые попутно способствуют созданию той или иной формы социальности.
Возьмем, например, устойчивость к стрессу. Это свойство контролируется гормонами, которые кодируются в геноме и наследуются. Особи с низкой стрессоустойчивостью будут больше подвержены влиянию факторов среды, зато их высокая чувствительность поможет им избегать стрессовых факторов. Последнее в свою очередь может привести к сложному социальному поведению. В этой логической схеме важно учесть, что высокая чувствительность не должна быть слишком избирательной, вид должен получить возможность реагировать на широкий спектр изменяющихся факторов. С.В.Попов предполагает, что эта схема должна работать в среде с низкой предсказуемостью среды. Но, увы, пока нет достоверных фактов, доказывающих высокую реактивность в ответ на неспецифическое стрессовое воздействие. Есть как раз обратные данные о специфичности реакций в ответ на специфичный стрессор. Однако автор считает приведенные рассуждения наиболее перспективными для понимания сущности социальной организации у животных.
Последние выпуски
- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025
- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025
- Том 86, № 4. Июль-август 2025
- Том 86, № 3. Май-июнь 2025