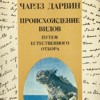Стресс как регулятор численности популяций
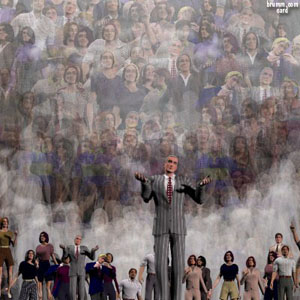
Численность популяций животных контролируется не только извне – условиями окружающей среды, но и изнутри – особыми механизмами саморегуляции. Важным элементом этих механизмов является стресс, испытываемый животными при перенаселении. Несмотря на большое количество предложенных гипотез, экологи пока далеки от четкого понимания места и роли стресса в колебаниях численности популяций.
Термин «стресс» введен в науку Гансом Селье , который называл это явление также «общим адаптационным синдромом».
Под стрессом обычно понимают стереотипный (примерно одинаковый у разных особей) ответ организма на разные воздействия, сопровождающийся перестройкой его защитных сил. Считается, что главная роль стресса – мобилизация сил организма в критической ситуации. Но в действительности, как всем хорошо известно, стресс (особенно длительный, хронический) часто не повышает, а снижает жизнеспособность организма.
Однако то, что губительно для особи, может оказаться полезным для популяции. Например, если из-за перенаселения часть особей в популяции испытывает стресс и поэтому менее активно размножается, то тем самым создается механизм саморегуляции численности, полезный для выживания популяции как целого. Именно такую роль стресса подчеркивал выдающийся эколог академик Игорь Александрович Шилов (1921 – 2001), памяти которого посвящен 4-й номер Журнала общей биологии за 2007 г, в котором опубликована обсуждаемая статья К.А.Роговина и М.П.Мошкина.
Авторы рассматривают четыре гипотезы, предложенные для объяснения механизмов саморегуляции численности популяций млекопитающих (и, возможно, приложимых также и к другим классам позвоночных). Ни одна из них не противоречит допущению о важной роли стресса в авторегуляции численности популяций.
1. Гипотеза отбора генетически детерминированных стереотипов поведения, или гипотеза Читти (Chitty, 1960, 1967). Суть идеи в том, что на разных стадиях популяционного цикла отбор может благоприятствовать животным с разным темпераментом и стилем поведения. Когда численность популяции мала, преимущество получают агрессивные, подвижные особи, способные захватить и удерживать территорию; они обеспечивают расселение популяции. Доля агрессивных особей растет. Однако чем выше становится плотность населения, чем меньше пользы для популяции от большого числа агрессоров, да и для них самих наступают не лучшие времена. Теперь отбор благоприятствует особям с более мирным и спокойным поведением, и число агрессоров начинает снижаться.
Чтобы подтвердить эту гипотезу, нужно показать, что агрессивность тесно связана с территориальностью, и что оба признака наследуются, и что при низкой плотности населения более «приспособленными» являются агрессоры, а при высокой – миролюбцы. Все это пока не доказано строго, хотя имеется ряд косвенных подтверждений, касающихся отдельных видов млекопитающих.
Авторы отмечают, что данный механизм может быть связан с разной восприимчивостью к стрессу у особей с разным поведением. Например, показано, что агрессивные мыши острее реагируют на длительный социальный стресс (перенаселение) – у них сильнее активизируется при этом гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система (ГГНС), один из главных компонентов стресс-реакции, что может приводить к подавлению репродуктивных функций. Низкореактивные (устойчивые к стрессу, «спокойные») особи лучше переносят эмоциональный стресс и поэтому могут получать преимущество при высокой численности, а высокореактивные лучше противостоят стрессовым факторам физической природы (таким как холод).
Кроме того, стресс, вызванный перенаселением, может напрямую способствовать генетической «перенастройке» популяции (например, показано, что в потомстве самок, подвергавшихся стрессу, уменьшается доля генотипов с высокой стресс-реактивностью; при стрессе растет также и частота мутирования).
Косвенные подтверждения гипотезы Читти (а также роли стресса в механизме авторегуляции) получены М.П.Мошкиным и его коллегами в ходе изучения водяных полевок. У этих зверьков в ходе сезонных изменений численности наблюдаются закономерные колебания доли животных с высокой и низкой стресс-реактивностью. На подъеме численности растет доля животных с бурой окраской, которые сильнее реагируют на стресс, а на спаде становится больше черных зверьков, которые обычно имеют низкую стресс-реактивность.
2. Гипотеза физиологических эффектов стресса, обусловленных переуплотнением, или гипотеза Кристиана (Christian, 1950, 1963). Эта гипотеза, подтвержденная многочисленными экспериментами, гласит, что стресс, обусловленный перенаселением, напрямую ведет к подавлению размножения, роста и созревания, а также к повышенной смертности. Этот механизм регуляции численности наиболее выражен у млекопитающих с несбалансированной численностью и высокой удельной скоростью ее роста (мыши, полевки, лемминги). Авторы приводят многочисленные примеры, подтверждающие реальность данного механизма авторегуляции. Стресс, обусловленный высокой плотностью населения, может проявляться в том числе и в росте агрессивности особей (в данном случае, в отличие от предыдущего, речь идет не об отборе «агрессивных» генотипов, а о росте агрессивности под воздействием стресса независимо от генетической предрасположенности). С другой стороны, у многих видов замечена обратная тенденция: снижение агрессивности при росте плотности. Авторы указывают, что связь плотности, агрессивности и стресса далеко не однозначна и при ее изучении необходимо учитывать специфику конкретного вида.
3. Гипотеза авторегуляции, основанная на физиологических эффектах в сфере отношений матери и потомства (Ward, 1984; Lee, McDonald, 1985). Предполагается, что численность популяции может регулироваться также и за счет того, что плотность популяции влияет на условия, в которых рождаются и растут животные, а от этого, в свою очередь, зависят темпы их созревания и особенности поведения (например, способность к расселению, удержанию территории и т.д.). Впрочем, по мнению авторов, эту гипотезу скорее следует рассматривать как расширительное толкование гипотезы Кристиана, поскольку в конечном счете все опять упирается в стресс. Социогенный стресс (обусловленный избыточной плотностью социальной среды) может замедлять развитие плода и рост детенышей, что вносит дополнительный вклад в снижение численности популяции, наряду с другими эффектами стресса.
4. Гипотеза родственных связей (Charnov, Finerty, 1980) предполагает, что в регуляции численности популяций участвуют закономерные изменения степени родства между особями, живущими по соседству, в зависимости от фазы популяционного цикла. Предполагается, что родственники обычно терпимы друг к другу и агрессивны по отношению к чужакам. При низкой плотности в популяции преобладают объединения родственников, при высокой неизбежными становятся тесные контакты между чужаками, что ведет к «социальной напряженности», то есть опять-таки к стрессу. Впрочем, фактических подтверждений у этой гипотезы пока очень немного.
Авторы указывают, что на сегодня ни одна из гипотез авторегуляции не может быть отвергнута, однако и свидетельства в их пользу, полученные в природе, несовершенны. Для лучшего понимания роли стресса в регуляции численности популяций, по мнению К.А.Роговина и М.П.Мошкина, необходимо иметь в виду следующее:
1) В качестве стрессора обычно рассматривается агрессия, социальный конфликт. Но стресс может быть вызван и другими факторами, которые тоже связаны с плотностью населения: недостатком пищи, обилием хищников и паразитов;
2) Неодоценивается роль «гормонов стресса» в регуляции поведения животных;
3) Стресс может не только снижать, но в некоторых случаях, наоборот, повышать выживаемость и репродукцию;
4) Недооценивается видовая специфика стресса и его последствий. Социальная организация различается у разных видов, и поэтому один и тот же фактор (стресс) может у разных видов приводить к разным последствиям на уровне популяции. Скорее всего, у разных видов вклад стресса в регуляцию численности далеко не одинаков.
См. также:
Что тревожит больших песчанок . По статье: К. А. Роговин и др. Многолетняя динамика уровня кортикостерона и его корреляты у самцов большой песчанки (Rhombomys opimus Licht.) в природе. Неинвазивные методы в исследованиях стресса // Журн. общей биологии. Том 67, 2006. № 1, январь-февраль. Стр. 47-52.
Ганс Селье. Стресс без дистресса .
Ганс Селье. Стресс жизни
Последние выпуски
- Том 86, № 4. Июль-август 2025
- Том 86, № 3. Май-июнь 2025
- Том 86, № 2. Май-июнь 2025
- Том 86, № 1. Январь-февраль 2025