Рапамицин не продлевает, а сокращает жизнь мышам с короткими теломерами

Рапамицин — один из самых перспективных кандидатов в «таблетки от старости». Испанские биологи проверили, как он будет действовать на одном из модельных объектов для изучения ускоренного старения — мышах с короткими теломерами, — и обнаружили, что он не продлевает им жизнь, как следовало ожидать, а наоборот, сокращает. Это еще одна история о том, что причины старения тесно взаимосвязаны, и, действуя на одну из них, можно ненароком усилить позиции другой.
Старение — это множество процессов, которые действуют на организм одновременно и постепенно приближают его смерть. Среди них, например, разрушение макромолекул, чрезмерная активация иммунитета, накопление неправильно свернутых белков, перестройка межклеточного вещества и многие другие. Выделить среди них главного невозможно — ни умозрительно, ни экспериментально. Несмотря на то, что каждая исследовательская группа обозначает какую-то причину старения как ключевую (иначе непонятен угол, с которого авторы смотрят на проблему), едва ли кто-то из современных геронтологов считает «свою» причину единственной.
Но если причин несколько, то должно быть и несколько способов с ними справиться — по меньшей мере по одному на каждую. Более того, если причины действуют сообща, то и терапия от старения должна быть составной, чтобы подрубить каждый из корней проблемы. Или все-таки удастся найти один подход, который будет воздействовать на все причины сразу? В пользу последнего варианта свидетельствует то, что некоторые причины старения все же взаимосвязаны друг с другом.
Примером может служить один из самых известных процессов старения, который происходит в большинстве клеток организма — укорочение теломер. Это концевые участки хромосом, которые состоят из «бессмысленных» повторов и выполняют в основном механическую функцию. Они служат этакой набойкой на ДНК, которую не жалко сносить со временем. Перед каждым делением клетки ДНК удваивается, а хромосомы укорачиваются — теряется часть теломерных повторов. Поэтому, если ничего не предпринимать (а некоторые клетки умеют наращивать концы хромосом обратно), теломеры постепенно изнашиваются. Когда от них мало, что остается, и они близки к тому, чтобы исчезнуть совсем, клетка перестает делиться. Для многих клеток и тканей, в которых они расположены, это тяжелая потеря — если соседи этой клетки погибнут, она не сможет произвести потомков, чтобы заполнить пустоту.
В то же время, теломеры могут укорачиваться и по иным причинам, вне связи с клеточным делением. Одной из таких причин может стать другой виновник старения — окислительный стресс. Когда митохондрии по тем или иным причинам не справляются со своей работой (например, их слишком мало, или им не хватает кислорода), в них накапливаются свободные радикалы — химически активные молекулы, которые вступают в реакции с разными клеточными полимерами. Они могут нарушить работу митохондрий, а если просачиваются оттуда в цитоплазму клетки, то повреждают белки и липиды, что ускоряет старение клетки. Если же их достаточно много, то некоторые добираются и до ядра. Там они окисляют молекулы ДНК, причем сильнее всего достается теломерам (см. W. Qian et al., 2019. Chemoptogenetic damage to mitochondria causes rapid telomere dysfunction). При сильном окислительном стрессе системы ремонта ДНК не справляются с починкой теломер и отрезают от них поврежденные участки (см. E. Fouqerel et al., 2019. Targeted and persistent 8-oxoguanine base damage at telomeres promotes telomere loss and crisis). Так под действием окислительного стресса теломеры становятся короче.
Если такие взаимосвязи установить и для других причин старения, то можно представить себе ситуацию, когда одного лекарства будет достаточно, чтобы остановить их разом. Группа ученых из испанского Национального центра исследования рака (Spanish National Cancer Centre) предположила, что таким лекарством может оказаться рапамицин. Это вещество известно в медицине как антибиотик и иммуносупрессор, но геронтологи знают его как блокатор mTOR. Это белковый комплекс, который подстегивает рост и развитие клетки — запасание веществ, синтез белка и активное поглощение энергии, — тем самым ускоряя изнашивание клеток. Рапамицин уже неоднократно доказывал свою способность замедлять старение клеток и продлевать жизнь модельных организмов (см. Рапамицин замедляет старение у мышей, Элементы, 15.02.2009), поэтому, кто знает, вдруг он мог бы решить и проблему укорочения теломер?
В качестве модельного объекта, который всерьез страдает от проблемы укорочения теломер, исследователи выбрали мышей с дефектом теломеразы — это тот самый фермент, который клетки могут использовать для наращивания концов хромосом. У мышей, в отличие от человека, теломераза работает во многих клетках в течение всей жизни (K. R. Prowse, C. W. Greider, 1995. Developmental and tissue-specific regulation of mouse telomerase and telomere length). И несмотря на то, что у мышей теломеры в несколько раз длиннее, чем у нас, в отсутствие теломеразы они быстро укорачиваются. Особенно заметно это становится в последующих поколениях, потому что потомки наследуют от родителей все более короткие теломеры. Второе поколение таких мутантных мышей живет около года вместо положенных 2–3 лет. Авторы работы предположили, что рапамицин мог бы справиться с этой проблемой ускоренного старения.
Однако результаты первого же эксперимента оказались строго противоположными (рис. 2). Исследователи начали наблюдать за обычными и лишенными теломеразы мышами в возрасте 3 месяцев. При этом внутри каждой группы часть животных кормили обычным кормом, а другим добавляли в него рапамицин. И если у обычных мышей рапамицин, как и во всех предыдущих работах, сдвинул кривую выживаемости вправо (то есть продлил жизнь), то у лишенных теломеразы мышей эффект оказался противоположным: под действием рапамицина они стали жить меньше.

Рис. 2. Кривые выживаемости мышей в эксперименте. Темно-серый — контрольная группа, светло-серый — мыши дикого типа под действием рапамицина, темно-зеленый — мыши без теломеразы, светло-зеленый — мыши без теломеразы под действием рапамицина. Рядом со стрелками обозначено изменение средней продолжительности жизни. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature Communications
Концентрация лекарства в плазме крови у мышей была приблизительно одинаковая, то есть дело не в том, сколько они его ели или как он всасывался в организм. Тогда авторы работы предположили, что повышенная смертность мышей с короткими теломерами под действием рапамицина может быть связана с ростом числа опухолей. Обычно короткие теломеры препятствуют опухолевой трансформации клетки — чем меньше ей осталось делиться, тем сложнее образовать опухоль. Но рапамицин работает как иммуносупрессор, то есть подавляет ответ организма на неконтролируемый рост клеток. Могло оказаться, что рапамицин противодействует эффекту коротких теломер и усиливает рост опухолей. Но это не так: после смерти ни у кого из мышей с короткими теломерами ученые не обнаружили следов канцерогенеза.
Судя по всему, что-то внутри клеток животных с короткими теломерами помешало рапамицину сработать. В пользу этого говорит и еще одно наблюдение, которое сделали исследователи: мыши с дефицитом теломеразы не теряли вес под действием рапамицина. В то же время, у обычных животных это происходит неизменно, потому что рапамицин блокирует рост жировой ткани.
Один из непосредственных эффектов, которые mTOR оказывает на клетки — усиление синтеза белков. Поэтому его активность можно оценивать по уровню фосфорилирования рибосомального белка S6: чем он выше, тем интенсивнее синтез. В обычных клетках рапамицин снижает фосфорилирование S6, тормозя работу рибосом. Исследователи измерили концентрацию фосфорилированного S6 у мышей, которые уже два месяца сидели на обычной или рапамициновой диете. Оказалось, что, в отличие от обычных животных, в печени мышей с короткими теломерами рапамицин не сработал: уровень фосфорилирования S6, несмотря на введение лекарства, остался прежним. То же произошло и с другими потенциальными эффектами рапамицина: у мутантных мышей он не повысил уровень аутофагии (самоперевания) в клетках и не снизил количество митохондрий — то есть не повлиял на интенсивность обмена веществ в клетках. Это означает, что рапамицин не выполнил свою основную функцию — не заблокировал сигнальный путь mTOR.
Чтобы выяснить, действительно ли лекарство не работает, авторы работы проверили, что происходит в клетках печени мышей с короткими теломерами через два часа после его введения. Оказалось, что за два часа рапамицин снижает количество фосфорилированного S6 — подобно тому, что происходит у обычных животных. Таким образом, проблема оказалась не в самом рапамицине. Коль скоро он может выполнить свою работу в клетках, дело может быть в том, что его работы просто недостаточно.
Исследователи предположили, что активность mTOR в клетках мышей с короткими теломерами сама по себе настолько высока, что рапамицин не может ее снизить. И действительно, когда они сравнили количество фосфорилированного S6 у обычных и мутантных животных, то заметили, что у мышей с короткими теломерами оно стабильно выше. Затем они отсеквенировали РНК в клетках печени и обнаружили, что у животных с короткими теломерами выше экспрессия генов, которые связаны с разными процессами обмена веществ — расщеплением глюкозы, делением и ростом, синтезом белков и жиров — и все они находятся под контролем mTOR.
Но если mTOR-путь так активен в клетках мышей с короткими теломерами, а его блокатор рапамицин сокращает их жизнь, значит, mTOR может служить компенсаторным механизмом и смягчать эффекты от недостатка теломеразы. Чтобы проверить эту гипотезу, авторы работы создали двойных нокаутных животных, у которых не работала не только теломераза, но и S6-киназа (S6K) — белок, который отвечает за фосфорилирование S6. Измерив продолжительность их жизни, исследователи заметили следующую закономерность (рис. 3). Животным с работающей теломеразой нокаут S6K продлевает жизнь, поскольку действует аналогично рапамицину, блокируя эффекты mTOR-пути. У первых двух поколений животных без теломеразы разницы в длине жизни практически нет. А вот у третьего поколения мышей с короткими теломерами нокаут S6K, наоборот, сокращает жизнь. Таким образом, при длинных теломерах без mTOR-пути можно обойтись, а его блокада работает на продление жизни. Но при коротких теломерах он становится критичным для выживания.

Рис. 3. График выживаемости мышей с разными наборами мутаций. В каждой паре более темный оттенок обозначает животное с работающей S6-киназой, светлый — нокаут по S6K. Серый — мыши с работающей теломеразой, красный — первое поколение мышей без теломеразы, синий — второе, зеленый — третье. Пунктирная линия обозначает медиану продолжительности жизни: время, до которого доживает половина популяции. Красная стрелка указывает на резкое снижение продолжительности жизни в третьем поколении мышей без теломеразы при нокауте S6K. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature Communications
Таким образом, идея использовать одно оружие против нескольких причин старения одновременно потерпела поражение, — по крайней мере, выбранное исследователями оружие для нее не подходит. Блокируя mTOR, рапамицин тем самым мешает выживать клеткам с короткими теломерами.
В обсуждаемой статье исследователи работали только с мышами, однако и у людей есть заболевания, которые связаны с сильным укорочением теломер. Это, например, врожденный дискератоз (dyskeratosis congenita) — дефицит теломеразы, который поначалу сказывается на кожной пигментации, а затем нарушает работу костного мозга, что и приводит к смерти пациентов. Таким людям, как и мышам с нокаутом теломеразы, рапамицин и его аналоги тоже, вероятно, помочь не смогут.
В то же время, пока совершенно непонятно, в какой степени блокаторы mTOR окажутся применимы для пожилых людей. Известно, что с возрастом средняя длина теломер у человека сокращается, но станет ли это препятствием для продления жизни с помощью рапамицина и подобных ему препаратов? Или же придется как-то воздействовать по очереди рапамицином и активаторами теломеразы, чтобы добиться нужного эффекта? Так или иначе, уже понятно, что простого ответа на этот вопрос не будет.
История с рапамицином и теломерами — показательный пример проблемы, с которой сталкивается современная наука о старении. Каждый раз, когда геронтологи обнаруживают какой-нибудь процесс, который усугубляет старение организма, и придумывают способ этот процесс остановить, у него неизменно обнаруживается оборотная «положительная» сторона. Так, например, сокращение теломер можно считать защитой от рака. Окислительный стресс — это стимул, который побуждает клетку мобилизовать внутренние резервы на борьбу с неблагоприятными условиями. А mTOR, в свою очередь, спасает клетки в условиях слишком коротких теломер. Поэтому раз и навсегда объявить какую-нибудь из причин старения главным врагом и развязать против нее войну у нас едва ли получится. Вместо решительного наступления потребуется изворотливая дипломатия — взвешивание рисков, чередование лекарств, поиск компромиссов, которые могли бы продлить жизнь организма, не сделав его уязвимым для очередного врага.
Источник: I. Ferrara-Romeo, P. Martinez, S. Saraswati, K. Whittemore, O. Graña-Castro, L. T. Poluha, R. Serrano, E. Hernandez-Encinas, C. Blanco-Aparicio, J. M. Flores, M. A. Blasco. The mTOR pathway is necessary for survival of mice with short telomeres // Nature Communications. 2020. DOI: 10.1038/s41467-020-14962-1.
Полина Лосева
-
Недавно Семихатов проводил передачу "Кислород: лучший друг или убийца"? (Ссылку не привожу потому, что она бесконечно длинная и разорвет страницу). Целью передачи было показать, что всё на свете, в данном случае - кислород, есть яд и лекарство в зависимости от дозы. Создался устойчивый научный миф о вреде свободных радикалов кислорода и пользе антиоксидантов, но на самом деле у свободных радикалов имеется "оборотная «положительная» сторона".
Важно, чтобы каждый биохимический участник работы клетки был нормален. Но ещё важнее баланс устойчивости клетки, чтобы центр "биохимической тяжести" совпадал с "геометрическим центром" биохимии клетки.
Спасибо, Полина!-
Вспомнил, что гость Семихатова рассказал о том, что клетка в нормальном состоянии А синтезирует, кроме необходимых белков, массу не нужного здесь и сейчас белка Х и сразу же уничтожает его. То есть, как бы тупо производится двойная работа с нулевым результатом. Выясняется - не тупо. Белок Х жизненно важен, когда клетка под влиянием внешних факторов вдруг переходит в опасное для себя состояние Б, и спасти её может только обилие этого самого Х. Его мгновенно должно стать много. Но белок не синтезируется мгновенно, и тогда природа нашла дорогостоящий выход: постоянно синтезировать его впрок и постоянно же уничтожать. Когда Х становится нужен, просто отменяется команда на его уничтожение, и клетка спасена.
В связи с этим смутно вспомнилась старая семихатовская программа о работе нервных клеток. Там такая же ситуация: синаптические пузырьки заготавливаются в двойном количества - на ускорение и на торможение.
Получается, что клетки идут на разнообразную и энергозатратную ненужность ради мгновенности отклика.
Написав все это, я внезапно понял, почему гипертонику иногда удается резко сбрасывать АД - очков на 20-30 - после 1-минутной медитации. Мой личный рекорд - 47 очков систолы. Столь короткого времени не хватит ни на какую биохимическую перестройку, зато хватит на то, чтобы отменить команду на уничтожение какого-то "гипертонического" белка Х.
-
У старости нет причины. Старость – это энтропия живого организма. То есть, теоретически её можно победить, лишь включив некие другие компоненты в организменную систему и увеличив в этих компонентах беспорядок и раздрай. Как это может выглядеть в жизни? Скорее всего, никак. Выглядит несовместимо с нормальной жизнью.
Что вовсе не означает, что механизмы процессов старения не надо изучать. Но рациональнее это делать с прицелом поиска терапии от реальных недугов.
...терапии от реальных недугов
...немного жадности в предвкушении прибылей
@
Слово энтропия я взял бы в кавычки. Всё-таки, живой организм есть самовосстанавливающаяся система, борющаяся со всякого рода эпизодическими нарушениями порядка. А если организм вдруг не сможет купировать некую "энтропию", то - отбрасывает копыта.
Когда-то неандерталец, почувствовав жар, просто жевал ивовую кору, и реальный недуг отступал. Сейчас недуги стали сочетанными, причем, сочетанность не выявляется до конца. То есть, образно говоря, если центр биохимической тяжести далеко отошел от геометрического центра биохимического ландшафта, то что и как будем лечить в условиях, когда не умеем определить ни "центры", ни расстояния между ними?
Эти самые "жадность и предвкушение", вообще-то, двигатель прогресса. Неравенство, во избежание катаклизмов, не должно быть отлито в граните, и свободное общество тем и отличается, что имеет внутри себя свободные пути движения людей к деньгам, как средству самореализации, и тогда общество саморегулируется. А если таких путей нет, то нарастает социальная "энтропия", два центра начинают неуклонно расходиться, и никакое обнуление тут не поможет.
-
У Вас какое-то искаженное представление об энтропии, недугах и неандертальцах.
Со "свободным обществом" лучше, но как-то идеализировано.-
Кто здесь ни пишет про энтропию, все наделяют ее какой-то самостоятельной, чуть ли не онтологической силой. Она практически управляет процессами. А ведь это всего лишь понятие второго порядка. Вот есть система, в которой заключены какие-то энергия и структура, и в этой системе энергия начинает уменьшаться, а структура дробиться, и всё движется к рассеянию в пространстве. Ну, не под действием же энтропии это происходит! А живая система вообще всё время импортирует энергию из внешней среды. Негэнтропия и пр.
Но статья не об этом. Наука столкнулась с тем, что "простые" лекарства дают и простой же, недостаточный эффект. Ушло то счастливое время, когда человек вылечивался ивовой корой. Рапамицин - очередной успешный было препарат, вдруг кое-кому стал сокращать жизнь. Приходит понимание, что клетка - это не только фабрика упорядоченных процессов, которые можно упорядоченно же ремонтировать, а это и системы сдержек и противовесов, в большинстве своём пока непонятных. Гость семихатовской программы - д.б.н. Белоусов В.В. - так и говорит: мы пока на половине пути. -
Да, с энтропией просто беда. Все в кучу и энергия, и энтропия, и структура.
Со свободным обществом как раз хуже. В Китае короновирус задавили, а Италия с населением в 60 млн против (1400 млн в Китае) уже обогнала "несвободный" Китай. При том, что эпидемия имеет разные сроки. Посмотрим на самоназванный "свободный мир". Тут будут цифры, а не измышления на основе методичек.
-
Старость – это энтропия живого организма.Вы демонстрируете тот самый узкий взгляд, о котором написано в статье: считаете одну из многих черт старения основной и даже единственной.
Как минимум, старение позволяет исключить из процесса размножения предыдущее поколение и, таким образом, ускоряет сходимость процесса естественного отбора. В этом случае старение - не энтропия (процесс очевидно не направленный), а выработанный эволюцией механизм (наряду с половым отбором, например). Старость может быть и локальной, то есть наступать не для всего организма, а для его частей (например, осенний листопад - явное старение, но не всего дерева, а только его листьев).
Если вы утверждаете что природа в виде феномена жизни не может противостоять хаосу, то как она вообще появилась и существует? Типа локального возмущения? Ну хорошо допустим, а что тогда мешает этому локальному возмущению существовать бесконечно долго пока позволяют условия? Алмаз со своей строго структурированной решёткой лежит себе и ничего, хаос его не побеждает. Не подходит? Ну ладно гидра в идеальных условиях живёт себе и ничего, не стареет и не помирает.
Ладно оставим софистику в стороне. Как с вашей хаосной теорией старости можно согласовать достаточно строго определённый предельный возраст, причём для каждого вида свой? Почему мы не умираем в рандомно взятом возрасте?
Смерть от старости это тонко настроенная программа основные преимущества которой видны на популяционном уровне. Не надо считать что эволюция работает только с конкретными особями (и для конкретных особей) и сразу всё встанет на свои места.
-
Ранние люди, небось, до 30 лет дотягивали, и "энтропия" вынимала их из жизни. Но популяционный уровень сам по себе, а тонкие настройки - отдельно. И они, вкупе с улучшением условий, позволяют современным людям в массе переваливать через 70 лет. Ну, а может, если получше настройки изучить, то в будущем переваливать будем через стольник?
-
Безусловно вы от части правы, дальнейшее изучение биологии человека будет в целом повышать предельный возраст популяции. Однако, про "недотягивали и до 30" в тот или иной век является устоявшимся мифом. Действительно СРЕДНЯЯ продолжительность жизни сильно выросла, но здесь заслуга геронтологов будет едва видна (если вообще видна) на фоне, например, пенициллина. Предельный возраст как был для человека где-то в районе ста, так и остался.
Этот миф легко опровергнуть если взглянуть на жизнь известных деятелей прошлых столетий: Король Арагона Хайме I прожил 68 лет (1208 г. - 1276 г.). Другой правитель, Сулейман 1 прожил 71 год (1494 г. - 1566 г.) Галилео Галилей дожил до 77 лет (1563 г. -1642 г.), Исаак Ньютон 84 года (1643 г. - 1727 г.) – очень неплохо даже для наших дней.
-
-
Вы пали жертвой линейной экстраполяции, перенося на "ранних людей" современные реалии.
Во-первых, тяжёлые условия жизни вычищали ослабевшие организмы, так что никакой "энтропии" с её плавным нарастанием проявиться не могло.
Во-вторых, очевиднейшим образом естественный отбор противостоит "энтропии", и, покуда он фильтрует - её проявлений не будет. Фильтрация естественным отбором происходит, пока особь оказывает влияние на выживаемость следующих поколений. Для человеков это примерно равно удвоенному сроку начала деторождения. Так что - да, "энтропический" процесс есть, но _начинает_ он действовать он только после 40 лет плюс-минус сколько-то.
Говорить о продолжительности жизни - вообще неправильно, следует говорить о "гарантийном сроке", вероятность доживания до которого велика. После истечения гарантийного срока - как кому повезёт (то есть типично энтропический процесс). Помер кто в 60 или 120 - уже не сказывается статистически на выживании потомков и потому не подвергается отбору и "стандартизации".
Извиняюсь за обилие кавычек, устоявшихся терминов не знаю (и, подозреваю, их нет).
-
В этом, безусловно, есть некоторый резон. Список функций, которые теломераза выполняет в клетке, до сих пор пополняется, и мы далеко не про все из них понимаем, зачем они нужны и как работают. Поэтому поломка теломеразы - это много сломанных механизмов разом. И статья как раз о том, что одним из таких сломанных механизмов оказалась способность откликаться на рапамицин, который "помогает" самым разным клеткам в разных критических ситуациях.
Долголетие
-
 20.03.2020Рапамицин не продлевает, а сокращает жизнь мышам с короткими теломерамиПолина Лосева • Новости науки
20.03.2020Рапамицин не продлевает, а сокращает жизнь мышам с короткими теломерамиПолина Лосева • Новости науки
-
 08.02.2020Молекулярные основы долголетияАлександр Панчин • Видеотека
08.02.2020Молекулярные основы долголетияАлександр Панчин • Видеотека
-
 12.11.2018Степень влияния генов на продолжительность жизни сильно переоцененаАлександр Марков • Новости науки
12.11.2018Степень влияния генов на продолжительность жизни сильно переоцененаАлександр Марков • Новости науки
-
 10.12.2012Гориллы-экстраверты живут дольшеЕлена Наймарк • Новости науки
10.12.2012Гориллы-экстраверты живут дольшеЕлена Наймарк • Новости науки
-
 10.12.2009Продолжительность жизни зависит от баланса аминокислот в пищеАлександр Марков • Новости науки
10.12.2009Продолжительность жизни зависит от баланса аминокислот в пищеАлександр Марков • Новости науки
-
 15.06.2009В интернете появилась новая база данных по продолжительности жизни позвоночных AnAge — самая полная и точнаяАлександр Марков • Новости науки
15.06.2009В интернете появилась новая база данных по продолжительности жизни позвоночных AnAge — самая полная и точнаяАлександр Марков • Новости науки
-
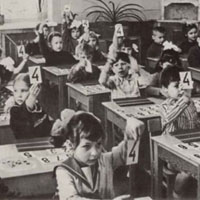 23.10.2008Умные и старательные дети живут дольшеАлександр Марков • Новости науки
23.10.2008Умные и старательные дети живут дольшеАлександр Марков • Новости науки
Последние новости



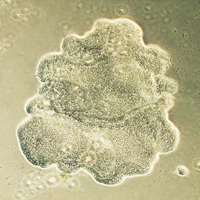
















Рис. 1. Старая (слева) и молодая (справа) мыши. Их несложно различить по степени ожирения и состоянию шерсти. Фото с сайта nbcnews.com