Зрительная ориентация дрозофил обеспечивается нейронами эллипсоидного тела

Насекомые — например, пчелы, осы, муравьи — обладают потрясающей способностью к ориентации с помощью зрения. Это тем более удивительно, что их нервная система гораздо компактней, чем у млекопитающих. Где же в этой относительно примитивной нервной системе «помещаются» центры для обработки зрительной информации? Ученые из Медицинского института Говарда Хьюза попробовали исследовать способность насекомых к зрительному ориентированию на излюбленной модели биологов — плодовой мушке дрозофиле.
Когда говорят о способности насекомых к ориентированию, то обычно имеют в виду социальных насекомых — пчел, ос и муравьев. У этих насекомых есть дом (улей, гнездо, муравейник), и зрительное ориентирование необходимо им для того, чтобы можно было покидать этот дом и без проблем туда возвращаться. В этом смысле социальные насекомые — гораздо более удобный образец для исследования ориентирования. Однако у дрозофилы перед ними есть огромное преимущество: эти плодовые мушки изучены вдоль и поперек, и для них существуют специальные генетические методики, способные «выключить» крохотные популяции нейронов. Таким образом, работать с ними неизмеримо удобнее, чем с другими организмами.
У дрозофилы нет дома, и вполне возможно, что ей вовсе не так важно знать, где она находится. Поэтому первый вопрос, на который нужно ответить, — есть ли у дрозофилы зрительное ориентирование как таковое. В принципе, в некоторых предыдущих работах способность дрозофил к ориентированию уже была показана. Но теперь ученые решили изучить ее более детально.
Эксперимент нужно было спланировать очень осторожно — так, чтобы мухам приходилось ориентироваться (то есть искать определенное место) исключительно с помощью зрения, без подсказок от, например, обонятельной системы. Поэтому исследователи использовали в своих экспериментах нелюбовь дрозофил к жаре. Они запустили мух в круглое помещение, на всей площади которого, за исключением одного прохладного укрытия, поддерживается некомфортная для дрозофил, слишком высокая температура. Стенки помещения — экраны, на которых изображаются регулярно чередующиеся полосы, на разных участках имеющие разное направление. Дрозофилы должны запомнить местоположение укрытия по рисунку окружающих его стенок, других подсказок им не дается. При каждом следующем опыте местоположение укрытия и рисунок стенок одновременно сдвигаются. При этом они не меняют положения друг относительно друга и рисунок стенок лабиринта по-прежнему может служить подсказкой при поиске укрытия (см. рис. 1).
Вначале исследователи провели серию из десяти опытов. Опыт продолжался 5 минут, мух запускали в экспериментальное помещение и записывали их передвижения с помощью камеры. При каждом следующем опыте рисунок стенок и местоположение укрытия синхронно сдвигались.
Как и ожидали исследователи, мухи быстро научились находить укрытие (см. рис. 1, нижний ряд, а также рис. 2, красные линии) и в десятом опыте тратили на его поиски примерно вдвое меньше времени, чем в первом. Но использовалось ли при этом именно зрительное ориентирование? Может быть, от внимания ученых ускользнула какая-нибудь подсказка, позволяющая другой сенсорной системе (например, обонятельной или слуховой), определить местоположение укрытия?
Чтобы проверить это, исследователи провели вторую серию опытов. В ней они тестировали мух при тех же условиях, но в полной темноте. В этих экспериментах мухи не могли научиться быстро находить прохладный участок, и в десятом опыте тратили на его поиски примерно столько же времени, сколько и в первом (см. рис. 2, черные линии). Это означает, что для ориентирования они действительно использовали зрительную, а не какую-нибудь другую сенсорную систему.
Кроме этого, исследователи провели третью серию опытов, в которой рисунок на стенах сдвигался от опыта к опыту, а местоположение укрытия не менялось вовсе (несинхронная панорама). Таким образом можно было убедиться, что мухи используют для ориентирования именно рисунок стен, а не какие-то другие пространственные подсказки. Дрозофилы, протестированные в этих условиях, показывали некоторую обучаемость (видимо, связанную с тем, что определенные подсказки может дать положение укрытия относительно самого помещения, время полета до него и так далее), которая, однако, была несравнима с той, которая достигалась в первой серии экспериментов (см. рис. 2, серые линии).
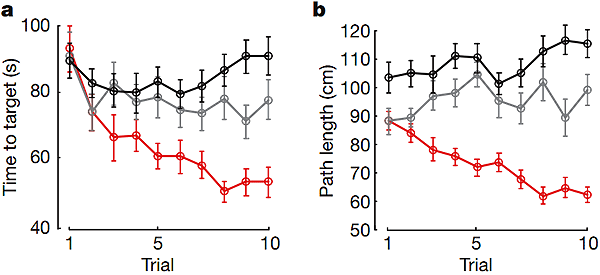
Итак, результаты явно свидетельствуют о том, что дрозофилы умеют использовать зрительную информацию для ориентирования. Теперь осталось узнать, где, в каком участке крохотной мушиной нервной системы хранится и обрабатывается эта информация.
Тут ученым на помощь пришла замечательная методика под названием GAL4/UAS-система (GAL4/UAS system). Благодаря этой методике исследователи могут практически произвольно «выключать» и «включать» крохотные участки того или иного органа в организме дрозофил и некоторых других животных. При этом, «выключить» участок можно уже у взрослого животного, поставив его в определенные условия (например, в данном исследовании участки «выключались» при повышении окружающей температуры до 30°C).

Внимание исследователей было сосредоточено на двух участках мушиного мозга. Один из них — грибовидные тела — имеет колоссальное значение для обучения и памяти, особенно обонятельной. Кроме того, было показано, что у некоторых насекомых грибовидные тела участвуют в процессах зрительного изучения пространства. Второй участок — эллипсоидное тело (см. Ellipsoid Body) центрального комплекса (см. The Central Complex) — задействован в ориентационном поведении, мультисенсорной интеграции и других «интеллектуальных» процессах.
И вот оказалось, что «выключение» грибовидных тел никак не влияет на зрительное ориентирование у дрозофилы, в то время как при «выключении» некоторых групп нейронов, входящих в эллипсоидное тело, пространственная ориентация мух заметно ухудшалась. Это означает, что у дрозофилы для зрительного изучения пространства критическими являются некоторые специфические нейроны внутри эллипсоидного тела (но не всё тело целиком). Грибовидные же тела, видимо, не играют у дрозофилы особой роли в данном типе ориентирования и, судя по некоторым данным, занимаются в основном обработкой обонятельной информации.
Однако работа мозга — дело очень тонкое. Может быть, дело не в том, что у мух нарушилась способность к ориентированию, а в том, что, скажем, они перестали чувствовать дискомфорт от слишком высокой температуры в экспериментальном помещении и поэтому перестали искать укрытие? Чтобы проверить, не нарушена ли в данном случае какая-либо еще функция, помимо зрительного ориентирования, исследователи «прогнали» мух по всевозможным тестам. В результате оказалось, что дрозофилы по-прежнему способны были избегать слишком высокой температуры, ориентироваться с помощью обонятельной системы, у них сохранилась оптомоторная реакция (см. Optomotor response) и так далее. То есть, судя по всему, у них было нарушено именно ориентирование с помощью зрения, а не что-либо другое.
Да, еще одна очень интересная деталь. Мухи с нарушенным зрительным ориентированием в основном летали по кругу, что очень напоминает поведение крыс с поврежденным гиппокампом (а гиппокамп у млекопитающих, помимо прочих дел, занимается также ориентацией в пространстве). Возможно, это говорит о том, что исследователи находятся на верном пути, и нервные процессы, проходящие в определенных участках эллипсоидного тела, действительно являются критическими для зрительного ориентирования.
В общем, результаты получились вдохновляющими. На компактном мушином мозге изучать закономерности проще, чем на мозге млекопитающих, и если зрительное ориентирование у млекопитающих и у насекомых имеет сходный механизм, то эксперименты на дрозофилах будут очень полезны для того, чтобы в этом механизме разобраться.
Источник: Tyler A. Ofstad, Charles S. Zuker, Michael B. Reiser. Visual place learning in Drosophila melanogaster // Nature. 2011. V. 474. P. 204–207.
Вера Башмакова
Последние новости











