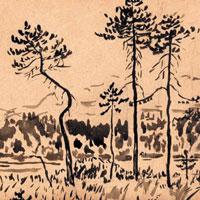Выбор Мильнера
Валерий Рубаков, Борис Штерн
«Троицкий вариант» №16(110), 14 августа 2012 года

Выбор Мильнера обсуждают Валерий Рубаков и Борис Штерн
Б.Ш.: Итак, в премии Мильнера прослеживается два крупных блока: космологическая инфляция и суперструны. Начнем с инфляции. Вообще, по-твоему, она заслуживает мощного премирования?
В.Р.: Возможно, чуть рановато. Я участвовал в дискуссии по поводу Нобелевской премии за инфляцию. Дело в том, что не хватает окончательного подтверждения.
— А оно нужно? Космологическая инфляция и так делает свое дело, имея огромное мировоззренческое значение. По сути, она дает правдоподобный ответ на вопрос «откуда взялась Вселенная». Да и возможно ли окончательное подтверждение?
— Возможно. Инфляция предсказывает гравитационные волны с плоским спектром (амплитуды одного порядка на всех частотах. — Прим. Б.Ш.). Гравитационные волны с таким спектром больше неоткуда взять. И их можно зарегистрировать. Если повезет, уже PLANCK (закончившая набор данных европейская космическая станция для измерения реликтового излучения. — Прим. Б.Ш.) может сделать это.
— Как? По поляризации реликта?
— Да. Если сильно повезет. А вообще планируется провести эксперименты, посвященные именно этому. И не только в космосе, а и в Антарктиде — на наземном радиотелескопе и, возможно, аэростатах...
— Это косвенный метод, основанный на том, что гравитационные волны поляризуют реликтовое излучение. А прямое детектирование, видимо, безнадежно?
— Да, там есть все частоты, но амплитуда сравнительно коротких волн в нынешней Вселенной очень мала. Так что их прямое детектирование — дело далекого будущего.

— Теперь по поводу самих лауреатов: насколько логичен их выбор? Напомню, там Алан Гут и Андрей Линде.
— Ну, Андрей вообще не вопрос — безусловно! Алан Гут — тоже вполне заслуживает. Сомнения связаны скорее не с наличием, а с отсутствием. Очень жаль, что этой премии не получил Алексей Старобинский. Все-таки первым космологическую инфляцию предложил именно он. И рождение гравитационных волн при инфляции посчитал еще до того, как появились другие работы про инфляцию.
— Обрати внимание: в формулировке премии Гуту сказано «за изобретение инфляционной космологии».
— Ну, это совсем неправда. Давай посмотрим основную статью коллаборации WMAP (предыдущий, американский эксперимент по измерению реликтового излучения. — Прим. Б.Ш.) — она должна точно отражать приоритеты. Смотрим порядок цитирования. Вот: космологическая инфляция: Старобинский 1979, 1982, Казанас 1980, Гут 1981, Сато 1981, Линде 1982, Албрехт, Стейнхардт 1982. Далее, возмущения плотности при инфляции: Муханов, Чибисов 1981, Хокинг 1982, Старобинский 1982, Гут, Пай 1982, Бардин и др. 1983.
— Ну, по поводу возмущений плотности всё правильно: сказано, что Гут внес вклад, а не изобрел. И он все-таки внес огромный вклад в пропаганду инфляции. Да и модель Гута красивая — фазовый переход вакуума с переохлажденным метастабильным состоянием.
— Красивая, но неправильная.
— Как я понимаю, там неправильный только выход из инфляционной стадии; кстати, в чем именно неправильность?
— Там потенциал скалярного поля с локальным минимумом. Поле туннелирует из этого минимума через барьер в глобальный минимум — там и тут образуются пузырьки новой фазы, которые, по предположению Гута, сливаются, образуя однородную горячую Вселенную. На самом деле пузырьки не успевают сливаться из-за очень быстрого расширения, получается безобразие, никак не похожее на то, что должно дать начало Вселенной. Потом Андрей Линде и Албрехт со Стейнхардтом предложили другой вариант: не надо никаких барьеров, скалярное поле, дающее инфляцию, и без барьера скатывается вниз достаточно медленно.
— Но революционной идеей Андрея была все-таки хаотическая инфляция, в которой и фазового перехода не нужно, и поле может иметь потенциал любой формы — ничего не нужно, только начальное состояние с произвольным ландшафтом. Там, где поле повыше, — начинается раздувание, а пока поле сползет вниз и диссипирует — микроскопический островок раздуется до гигантских масштабов.
— Примерно так, изюминка здесь в том, что в уравнении, описывающем изменение поля, когда идет инфляция, есть член, точь-в-точь эквивалентный трению для поля, — производная по времени множится на постоянную Хаббла (обратная постоянная времени расширения вселенной. — Прим. Б.Ш.), которая огромна. Именно поэтому поле поначалу ползет вниз медленно.
Андрей Линде: «Научные премии не будут конкурировать»
Интервью с лауреатом многочисленных научных наград, в том числе медали Дирака (2002), профессором факультета физики Стэнфордского университета (США), Андреем Линде.
— Какой была Ваша первая реакция, когда Вы узнали, что стали лауреатом премии Мильнера?
— Когда мне позвонили и спросили, соглашусь ли я принять эту премию, это было так нереально, что я пошутил и сказал, что подумаю, а потом понял, что это, возможно, самая глупая шутка в моей жизни, и быстро исправился.
— Вам случайно звонил не Нима Аркани-Хамед из Принстона?
— Да, но это был просто предварительный контакт. Его попросили позвонить, потому что, если бы людям в Америке звонил человек с русским акцентом и сообщал об огромной премии, ему могли бы и не поверить.
— Вы общались с Юрием Мильнером? Какое впечатление он на Вас произвел?
— Сразу после того, как Нима Аркани-Хамед со мной проконтактировал, мне позвонил Юрий Мильнер и на следующий день приехал ко мне. Мы с ним проговорили целый час. Очень интересный человек, с ясным видением того, чего ему хотелось бы добиться.
— Он специально прилетел в США?
— Он имеет дом в США и много ездит. В тот момент он находился в Америке, его дом относительно недалеко от нас.
— Встречали ли Вы Мильнера во время работы в ФИАНе?
— Вы знаете, мы как раз в это время уезжали в ЦЕРН, и пересечение у нас если и было, то эпизодическое. Он работал с Файнбергом довольно короткое время, я не помнил, встречались ли мы. Однако когда мы его увидели, его лицо мне показалось знакомым.
— Скажите, пожалуйста, Вы, как и другие лауреаты новой премии, вошли в ее отборочный комитет. Будете ли Вы номинировать кандидатов или только осуществлять экспертизу? Каким Вам видится участие в будущей премии?
— Номинировать может каждый, но никто не может номинировать сам себя. Лауреаты будут выбирать тех, кто получит новые премии.
— По каким принципам должен осуществляться отбор, кто должен претендовать на премию главным образом?
— Цель премии — вознаградить лидеров современной науки и дать им возможность продолжать оставаться лидерами и сосредоточиться на своей работе.
— Как Вам кажется, сможет ли эта премия стать столько же престижной, как Нобелевская, или не в этом задача?
— Во-первых, я думаю, не в этом задача. Во-вторых, критерии выбора лауреатов разные. Нобелевская премия дается за надежно установленные, экспериментально проверенные факты. Задача премии Мильнера — наградить лидеров современной физики. Эти две группы людей не всегда совпадают. Самый известный пример — Альберт Эйнштейн. В сообщении о Нобелевской премии ему сказали: ...Королевская академия наук на своем вчерашнем заседании приняла решение присудить Вам премию по физике за прошедший (1921) год, отмечая тем самым Ваши работы по теоретической физике, в частности открытие закона фотоэлектрического эффекта, не учитывая при этом Ваши работы по теории относительности и теории гравитации, которые будут оценены после их подтверждения в будущем. Как мы знаем, за эти свои самые знаменитые работы, определившие дальнейшее развитие современной физики, Эйнштейн Нобелевскую премию так никогда и не получил. Так что вопрос не в том, будет ли эта премия более престижной, чем Нобелевская. Вполне возможно, что в области вознаграждения за творческие успехи и продолжающуюся творческую активность эти премии не будут конкурировать [1].
— Вы уже планируете цикл научно-популярных лекций в мире и в России или пока об этом не думали?
— Это является не требованием премии, а пожеланием. Тем более, что я уже выполнил это пожелание заранее [2]. За несколько дней до получения премии, 25 июля, я выступил с научно-популярной лекцией в Институте SETI, а о премии молчал как рыба. Лекция записана на видео и будет показана на YouTube вместе со многими другими лекциями, которые в этом институте даются.
— Как она называлась?
— Life in the Multiverse — «Жизнь в многоликой Вселенной» (на сайте seti.org сообщается, что видеолекция А. Линде появится 15–22 августа 2012 года на странице. -Прим. ред.)
— Вы уже думали, как потратите деньги премии? Планируете ли направить какую-то часть на поддержку молодых ученых или на какие-то другие благотворительные цели?
— Я пока ни к какому решению не пришел. Я знаю также, что часть премии Мильнера, начиная со следующего года, будет направлена на поощрение молодых ученых.
— Как Вам кажется, не передумает ли олигарх в следующем году и не решит ли закрыть свое начинание? Нет ли опасения, что всё это закончится разовой акцией?
— Я думаю, это маловероятно. Показательно, что в Совет директоров созданного им фонда он пригласил Стивена Вайнберга, лауреата Нобелевской премии. Вайнберг — выдающийся физик, трудно было бы найти более авторитетного человека, с его мнением считаются, и его очень уважают. Так что сам факт, что Мильнер пригласил этого человека, — очень существенная вещь.
— Когда Вы собираетесь в Москву?
— Я бываю в Москве один или два раза в год, последний раз — месяц назад. Там живет моя мама Ирина Вячеславовна Ракобольская, долго проработавшая профессором физики в МГУ, а также мой брат Николай Линде, профессор психологии. Я их регулярно навещаю.
Вопросы задавала Наталия Демина
— Андрей сразу понял, что инфляция, раз начавшись, не может везде заглохнуть, т. е. будет вечной?
— По-моему, не сразу. Концепция вечной инфляции была опубликована потом.
— Это видимо из тех идей, которые потом кажутся очевидными, а изначально додуматься не так просто. Ведь очевидно что, как быстро ни диссипирует поле, область, где оно не успело диссипировать, раздувается так быстро, что всегда где-то остается.
— Да, тут еще помогают квантовые флуктуации. Флуктуации, подкидывающие поле наверх, дают еще более быстрое раздувание, и таким образом раздувающегося пространства становится всё больше и больше.
— И получается полный грандиоз под названием «Мультиверс»: каждую секунду любой исчезающе малый объем инфлирующего пространства разворачивается в десять черт знает в какой степени островных вселенных, в будущем огромных, с разными законами физики, обитаемых и необитаемых...
— Тут надо перевести дух, выпить чаю и покурить.
* * *
— Перейдем к суперструнам. Здесь уже никаким экспериментом ничего не докажешь, но они тоже, видимо, имеют огромное мировоззренческое значение.
— Не только. Еще огромное значение для математики. Суперструны наплодили большое количество интересных математических объектов, до которых сами математики не додумались. Да и просто для развития мозгов имеют немалое значение.

— Как изначально вводятся суперструны? Вот, в физике частиц основа — квантовая теория поля, где роль первого принципа играет континуальный интеграл Фейнмана, с которым работать иногда тяжело, иногда невозможно. Но из него с помощью теории возмущений извлекаются рабочие приемы, с помощью которых можно много чего посчитать. Суперструны тоже как-то берутся из интеграла Фейнмана в каком-то модифицированном варианте?
— На нынешнем уровне — нет. Суперструны вначале вводятся аналогично частицам в релятивистской квантовой механике — уравнение вроде Клейна—Гордона для свободных частиц, только объекты имеют вид струн — открытых или замкнутых, где есть квантовые уровни разных мод колебаний. Эти возбуждения можно ассоциировать с частицами. Далее, сразу применяется теория возмущений, есть аналог диаграмм Фейнмана, только вместо линий там трубы, которые могут сливаться подобно штанинам брюк, ну и дополнительные интегралы надо брать.
— Когда появились струны?
— В первом варианте еще в 60-х — начале 70-х в попытке описать взаимодействия адронов. Поначалу теория давала неприятный артефакт — тахионы, двигающиеся быстрее света и нарушающие причинность. Потом появились суперструны, избавившие теорию от тахионов. Потом самосогласованные теории суперструн без всяких внутренних противоречий вообще. Причем они возможны только в пространстве большего числа измерений, минимум 10. Я очень хорошо помню, как в Москву приезжал Виттен, кажется в 1985 году. Выступая на семинаре в ФИАНе, он заявил, типа: друзья, всё, теория сформулирована! Есть две и только две самосогласованные модели — они должны описать всё. Остались технические трудности, но, осилив их, мы выжмем всё, мы сможем из первых принципов получить такие вещи, как заряд и массу электрона.
— Получается, не осилили, в чем основной затык?
— С тех пор выяснилось, что всего самосогласованных моделей пять, сделан действительно огромный вклад в математику, а настоящего, окончательного аппарата всё еще нет. А основной затык появился в неожиданном месте: оказалось, что в теории суперструн есть примерно 10500 разных вакуумов, причем они вырождены по энергии, значит равноправны. И мы не знаем, в котором из этих вакуумов живем...
Максим Концевич: «Чистая фантастика»
Интервью с лауреатом Филдсовской премии, постоянным профессором Института высших научных исследований (IHES) под Парижем Максимом Концевичем.
— Какой была Ваша реакция на премию?
— Первая реакция: премия слишком большая.
— Долго ли раздумывали над тем, принять премию или не принять?
— Несколько дней.
— Вы не только стали одним из первых лауреатов новой премии, но и вошли в отборочную комиссию, которая будет решать, кто достоин новой награды. Кто в первую очередь, на Ваш взгляд, должен претендовать на эту премию?
— Есть немало, скорее, даже очень много замечательных теорфизиков, например Александр Поляков или Кумрун Вафа (Cumrun Vafa). Я как математик тут несколько со стороны, физикам виднее.
— Задумались ли Вы уже о темах публичных лекций, с которыми выступите в рамках премии? Планируете ли выступить с ними в России?
— Вообще-то я практически никогда не читал лекций для неспециалистов, и почти все мои доклады я делаю на доске с мелом, так что придется осваивать PowerPoint или что-то в этом роде. У физиков другие привычки, около сотни слайдов/страниц на доклад, и невозможно уследить, если заранее не знать большую часть.
— Планируете ли Вы направить какую-то часть премии на поддержку молодых ученых или на какие-то научные цели?
— Во-первых, мне нужно понять, сколько денег останется после выплаты очень прогрессивных французских налогов (эта премия не вписывается в правила, касающиеся остальных научных премий). В принципе я думаю поддержать мой собственный институт IHES.
— Не удивило ли Вас то, что премию за фундаментальную физику вручили Вам, математику?
— Да, я единственный математик среди лауреатов (и думаю, что это будет долго продолжаться, — как я уже сказал, есть длинная очередь из теорфизиков). Взаимодействие между теорией струн и математикой в последние 20 лет — чистая фантастика. Оно сильно оживило и изменило многие области, особенно алгебраическую геометрию и симплектическую топологию. С другой стороны, поразительно то, что одно из самых абстрактных алгебраических понятий, так называемые триангулированные категории, стало «орудием труда» у физиков при вычислении спектров суперсимметричных теорий.
Глубинная причина математического успеха теории струн состоит, видимо, в том, что топология двумерных поверхностей отвечает за универсальный когомологический формализм в некоммутативной алгебре и геометрии.
Вопросы задавала Наталия Демина
— Видимо, такое чудовищное число может взяться только из комбинаторики. Что именно комбинируется?
— Конечно. Есть гигантское число способов, которыми можно редуцировать изначальное 10- или 11-мерное пространство в наш четырехмерный мир. Можно свернуть лишние измерения так, можно сяк, вакуумная топология одного поля может быть такой, другого — сякой. Ну и так далее. Понятно, что исследовать 10500 возможностей нереально. А то, как будет работать теория суперструн, что она будет предсказывать, зависит от конкретного вакуума, в котором мы находимся. А определить это невозможно ни теоретически, ни экспериментально. Люди пытались действовать следующим образом: возьмем такой-то подкласс суперструнных вакуумов, где их всего миллион — с этим числом уже можно работать. Посмотрим, нет ли в этом миллионе вариантов, где появляется нечто похожее на стандартную модель. Потребуем, чтобы при данном вакууме был легкий электрон, — 99% вариантов отсеивается. Потребуем, чтобы там были три поколения кварков, — остается всего 200 из миллиона. Потребуем еще, чтобы заряды были правильными, — не выживает ни один вариант. И что делать дальше с оставшимися 10500 за минусом миллиона?
Но несмотря на все проблемы, суперструны породили массу интереснейших математических структур, и среди них такую капитальную, как браны. Эти браны теории струн вдохнули новую жизнь в идею, которую мы с Михаилом Шапошниковым высказали довольно давно: мы живем на доменной стенке, все наши частицы к ней прикреплены, а выскочить в дополнительные измерения пока не можем — не хватает энергии. В таком случае дополнительные измерения могут иметь большой или даже бесконечный размер. Теперь это называют миром на бране.
Алексей Китаев: «Премия для теоретиков нужна»
Интервью с лауреатом Гранта гениев (стипендии фонда Макартуров 2008 года), профессором Калифорнийского технологического института Алексеем Китаевым
— Какой была Ваша первая реакция на премию? Общались ли Вы с ее учредителем?
— Я был очень удивлен. Со мной сначала связался физик Нима Аркани-Хамед (Nima Arkani-Hamed из Института перспективных исследований в Принстоне. — Ред.) и сообщил об этой премии, сказав, что я в числе победителей. Потом уже мне позвонил Юрий Мильнер и официально сообщил о присуждении премии. Он также рассказал о своих идеях, связанных с этой премией, чем она может быть хороша и чем, в частности, она отличается от Нобелевской премии.
— Каковы же главные отличия?
— Главное отличие состоит в том, что она присуждается за работы по фундаментальной физике, которые необязательно получили экспериментальное подтверждение, чтобы ученым, получившим выдающиеся результаты, не надо было долго ждать. Второе отличие — в том, что эта премия может делиться на любое число участников. Кроме того, Мильнер просит получателей премии выступать с публичными лекциями перед широкой публикой, чтобы поднять престиж физики в обществе.
— Долго ли Вы раздумывали над тем, принять ли премию или не принять? Вообще раздумывали ли Вы?
— Я раздумывал, но решающее значение для меня имело то, что победители — очень известные физики, а Нима Аркани-Хамед назвал несколько других фамилий, не все, но несколько. И это было решающим фактором, это значило, что премия престижная и мне оказана большая честь.
Сам Аркани-Хамед тоже оказался в числе лауреатов премии. Я не расспрашивал его, но думаю, что Юрий Мильнер попросил его заняться некоторыми оргвопросами, в частности, он участвовал в организации веб-сайта.
— Началась ли вокруг Вас шумиха, чувствуете ли Вы внимание прессы, Вам много звонят, пишут?
— Мне в первые дни звонили и задавали вопросы, в последующие дни я получил пару писем, на которые я, правда, пока не ответил. Вначале я дал интервью The New York Times, the Los Angeles Times, Pasadena Star-News.
— Звучат мнения, что ученые, работающие в области фундаментальной физики, испытывают нехватку крупных научных наград и Нобелевка поощряет скорее экспериментаторов, чем теоретиков. Что Вы об этом думаете?
— В отношении Нобелевки не совсем так, она поощряет также и теоретиков, если теоретические результаты связаны с экспериментом. На самом деле, я считаю, это правильно и по этой причине Нобелевская премия остается более престижной. При наличии связи теории с экспериментом оценка будет более объективной, чем по чистой теории. И понятно, что результат, подтвержденный практикой, надежнее.
С другой стороны, премия для теоретиков тоже нужна, в особенности в связи с тем, что на математику Нобелевская премия не распространяется. Есть работы, находящиеся на стыке математики и физики, которые могут не быть непосредственно связаны с экспериментом, но идеи из них будут развиваться другими учеными и, в конце концов, приведут к экспериментам. Для авторов таких теоретических работ, конечно, тоже нужна премия.
— Эта премия будет вручаться ежегодно или раз в несколько лет?
— Ежегодно.
— Вы не только стали одним из первых лауреатов новой премии, но и вошли в отборочную комиссию, которая будет решать, кто достоин новой награды. Кто в первую очередь, на Ваш взгляд, должен претендовать на эту премию? Какими главными принципами Вы будете руководствоваться?
— Надо стараться смотреть более широко, на авторов наиболее важных и интересных работ во всех областях физики, в том числе и в физике конденсированного состояния, элементарных частиц и астрофизике. Премию решено присуждать за работы в области фундаментальной физики, т. е. это исключает прикладные и инженерные исследования. Каким образом выбирать лауреатов премии, мы должны решить в комиссии между собой, и пока мы на этот счет не разговаривали.
— Возможно, вы все сможете встретиться на торжественной церемонии?
— Нет, церемонии не будет.
— То есть это еще одно отличие по сравнению с Нобелевкой, не будет ни банкета, ни церемонии?
— Нет, не будет.
— А Вам это больше по душе?
— Да, выступать в торжественной обстановке — это тяжело.
— Будете ли Вы лично предлагать кандидатов или же будете проводить экспертизу представленных на конкурс кандидатов?
— Есть процедура номинации — она открыта. Я как-то не задумывался над тем, можем ли мы сами номинировать. Думаю, этого делать не придется.
— Нужно ли стремиться к тому, чтобы новая премия стала столь же престижной, как и Нобелевская?
— Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы она была престижной, но, как я уже сказал, правило, что работа подтверждена экспериментом, — более жесткое, и думаю, как раз поэтому Нобелевская премия будет более престижной, по крайней мере, с точки зрения физиков. Эти работы прошли большую проверку экспериментом. А в остальном, надо, конечно, стремиться выбирать самые лучшие работы, и это будет определять престиж новой награды. Если другие физики тоже оценят авторов исследований, получивших премию, то она будет иметь большой престиж.
— Возможно ли, что награду получат ученые, работающие на стыке физики и биологии или физики и химии? Не физики и математики, а других дисциплин?
— В ближайшие годы такого не предвидится, а как будет дальше развиваться наука, я не знаю. Одно из условий — это должна быть фундаментальная физика.
В последующие годы уже не появятся девять лауреатов по разным темам, будет только один лауреат или несколько на одну тему. По крайней мере в правилах этой премии сказано «получатель премии» — в единственном числе. Будет еще «предварительная» премия в 300 тыс. долл. для ученых всех возрастов, ее получатели становятся автоматическими претендентами на основную. Кроме того, будет еще премия в 100 тыс. долл. для молодых ученых.
— Как Вы уже упомянули, основатель премии Ю. Мильнер надеется, что новая премия поможет сократить разрыв между фундаментальными физиками и широкой публикой [1]. Задумались ли Вы уже о темах публичных лекций, с которыми выступите в рамках премии? Планируете ли выступить с ними в России?
— Я хочу посоветоваться с коллегами, которые выступают с подобными лекциями перед широкой публикой. На самом деле, научно-популярная лекция — довольно сложная задача, и я не совсем понимаю, что именно нужно слушателям. Понятно, что необходимо заинтересовать слушателей, а с другой стороны, нужно попытаться объяснить им что-то, считаясь с их неспециальным уровнем подготовки. Если человек закончил среднюю школу и брал там курс AP Physics, как мой сын, например, тогда, может быть, он что-то знает о физике. Для человека, который учился по стандартной программе, это будет сложнее. Новые результаты требуют не только знания школьной программы, но университетской и больше. Поэтому как правильно выбрать тему, чтобы можно было рассказать и объяснить ее всем, я пока не знаю. Над этим надо думать.
— Как продвигается Ваша работа в области квантовых компьютеров и квантовой физики? Что-то новое удалось обнаружить?
— Я сейчас занимаюсь топологическими фазами, это более математическая работа. Пока я не получил каких-либо значимых результатов, о которых можно было бы говорить широкой публике. Правда, есть то, что имеет отношение к моим предыдущим работам. Большая новость была в начале этого года, когда группа из Делфта — Лео Ковенховен (Leo Kouwenhoven) и другие обнаружили майорановские моды в так называемых квантовых проволочках, сделанных из антимонида индия (соединения индия и сурьмы), помещенных в определенные условия. 12 лет назад я написал работу на эту тему и очень рад тому, что идея развивается. Конечно, я был не один, другие ученые тоже внесли большой вклад, в особенности уже на следующих этапах, когда нужно было понять, как ее претворить в жизнь.
Это уже не моя заслуга — развитие идеи, но сам по себе результат — очень интересный, он еще находится в предварительной стадии, т. е. надо относиться к этому осторожно, но если всё подтвердится, то будет здорово.
— Обычный человек скажет: хорошо, пусть майорановские моды существуют, а как их можно применять на практике?
— Непосредственного практического применения нет, но моя идея в той работе заключалась в том, что их можно использовать для квантовой памяти. Можно попытаться сделать квантовую память, основанную на этих модах, но это долгая работа, прежде чем от чистой физики можно будет перейти к технологиям.
— Что говорит Ваша интуиция, когда же появятся полноценные квантовые компьютеры? Через 20 лет? 50?
— Я сейчас не даю прогнозов, потому что, когда я начал заниматься этой темой в районе 1995 года, думал, что такие компьютеры появятся через 30 лет. Но похоже, они не появятся в районе 2025 года, а когда точно появятся — трудно сказать. Всё развивается несколько медленнее, чем ожидалось. Я не могу сказать, что совсем медленно, но медленнее, чем хотелось бы, поэтому трудно давать прогнозы.
— И еще один вопрос, может быть нескромный: «Вы уже задумались над тем, как потратите премию, может быть, какую-то часть решите потратить на создание грантов для молодых ученых или на что-то другое?»
— Я думал над тем, что некоторую часть денег надо потратить на поддержку школьников или студентов или что-то в этом роде, но серьезно как это организовать, я пока не решил. У меня нет времени заниматься организационной работой, скорее всего, нужно будет присоединиться к уже имеющейся программе.
Вопросы задавала Наталия Демина

— Давай пройдем по оставшимся лауреатам, кроме Виттена, с которым и так всё ясно. Также мы вряд ли сможем сказать что-то внятное про Концевича и особенно про Китаева с его квантовыми вычислениями. Но в этом же номере есть интервью с ними самими. Итак, Аркани-Хамед — «большие дополнительные измерения».
— Это как раз версия мира на бране. Вообще-то авторов статьи на эту тему три: Аркани-Хамед, Димопулос и Двали. Сама по себе идея больших дополнительных измерений была встречена хорошо, потому что она сдвигает масштаб гравитации в ТэВ-ную область, что можно уже почувствовать на Большом адронном коллайдере. Идея такова, что по какому-то измерению радиус компактификации пространства очень велик, например доли миллиметра. А мы не знаем, как ведет себя гравитация на расстояниях много меньше миллиметра. В этих моделях гравитация в пределах долей миллиметра сильнее, чем обычная, а вне радиуса компактификации становится слабой, какой мы ее и наблюдаем. Что касается Аркани-Хамеда, у него безусловно есть немало сильных работ, а заслуживает ли он премии в числе нескольких сильнейших — это я не берусь утверждать категорично.
— Далее — Хуан Малдасена, «калибровочно-гравитационная дуальность».
— Это очень сильная работа с далеко идущими последствиями. Тут в формулировке правильно сказано, что идея проясняет даже такие далекие области, как ядерная материя при высоких температурах. Тут я поддерживаю выбор.

— Там же в формулировке сказано, что результат разрешает информационный парадокс черных дыр. Честно говоря, никогда не понимал, почему это парадокс и почему информация должна сохраняться при бросании чего-нибудь в черную дыру?
— Строго говоря, информация не должна исчезать. Допустим, бросили мы в черную дыру книгу Пушкина или книгу Достевского...
— Ну, будем считать, что они просто за углом скрылись, за горизонтом — где тут потеря?
— Да, но потом черная дыра испаряется через механизм Хокинга. При этом излучение Хокинга вроде бы ничего знает о том, какую книгу туда бросили. А в конце концов исчезнет само место, где могла скрыться информация.
— Но в процессе падения предметов в черную дыру при приближении к сингулярности с ними происходит необратимая термодинамическая диссипация с ростом энтропии. Информация при этом стирается. С таким же успехом можно кинуть любую из этих книг в костер. И где потом будет информация о том, какую из книг бросили?
— По идее, если мы умеем все точно измерять: молекулы, частицы дыма — и восстанавливать историю назад по законам физики, мы в принципе сможем сказать, какая из книг сгорела.
— То есть учтем все частицы, восстановим историю, воспарим над вторым началом термодинамики, и пусть демон Максвелла нервно курит в сторонке?
— Хорошо, будем скромнее. Пусть черная дыра имеет массу, близкую к минимальной — планковской. И она поглотила всего несколько очень массивных частиц. Она вернется назад к планковской массе, излучив через механизм Хокинга тоже лишь несколько частиц. Так вот, ранее думалось, что вторые ничего не будут знать о первых, информация о поглощенных частицах теряется. А Малдасена как раз заявляет через свой результат, что излученные частицы будут связаны с поглощенными и, измерив излучение в деталях, можно восстановить начальную картину.

— Принято. Далее Сейберг.
— Тут я обеими руками голосую «за». Сделана очень классная работа — найдены точные решения непертурбативной теории для случая суперсимметричного поля Янга-Милса. Ты представляешь, как можно работать с фейнмановским интегралом без помощи теории возмущений?
— Ну как — молотить на решетке до посинения. Распараллеленный код, сотни процессоров, недели счета — и результат у вас в кармане.
— А здесь никакой молотьбы, точный результат, в каком-то смысле — угаданный. Точный результат в науке всегда на порядок более ценен, чем молотьба на компьютере.

— Далее следует Ашоке Сен — «сильно-слабая дуальность».
— Эти дуальности — очень важная вещь, из них следует, что имеющиеся пять самосогласованных моделей суперструн на самом деле являются разными асимптотиками одной теории, лежащей в основании. Но, к сожалению, я плохо знаю, что именно сделал Сен, поэтому мне здесь лучше воздержаться.
— Итак, вроде в целом выбор неплохой. Есть один явно обойденный человек, но это и с присуждением Нобелевской премии случается регулярно — не дали Каббибо, не дали Летохову...
— Да, с Летоховым вообще вопиющий случай. Конечно жалко, что не дали Алексею Старобинскому. Интересно, Мильнер с кем-нибудь советовался?
— Вроде советовался с Вайнбергом. Конечно, всегда найдутся злые языки, которые отметят те или иные ошибки, обвинят Мильнера в волюнтаризме, но ведь он, в отличие от Нобелевского комитета, распределял свои собственные деньги.
— Вот именно!
Фотографии лауреатов с сайтов Википедии, Библиотеки университета Вены,
Института Филдса, Института фундаментальных исследований
1. Юрий Мильнер: «Разрыв в понимании мира физиками и обычными людьми должен сокращаться».
2. См. мнение Ларса Бринка, члена Нобелевского комитета по физике, о том, повлияет ли новая премия на Нобелевку.
3. См. также лекцию А. Линде «Многоликая Вселенная», с которой он выступил в ФИАНе 10 июля 2007 года.
4. Перевод лекции А. Линде «Инфляция, квантовая космология и антропный принцип» 2003 года.
5. Сайт премии в области теоретической физики.
-
"Интересно, Мильнер с кем-нибудь советовался?
— Вроде советовался с Вайнбергом."
Вот именно. Нашёл с кем советоваться.
Поэтому и дал премии не Логунову и его коллегам, а пустозвонам с их неработающими теориями - нелепой инфляцией, смехотворными струнами и совершенно уж идиотскими чёрными дырками.-
Я тоже подумал что за бред, какие струны какая инфляция, пространство едино и в нём движется вещество, ничего с ним не происходит. В общем бредовые теории, бредовые премии, лучшеб что нибудь из реально физики, или учёным которые о земле думают, почему бы не дать премию Алексею Карнаухову за его теорию парниковой катастрофы, а так же тем кто придумывает как её избежать. Пока эти теоретики будут страдать фигнёй, может вообще ничего не остаться.
-





.jpg)