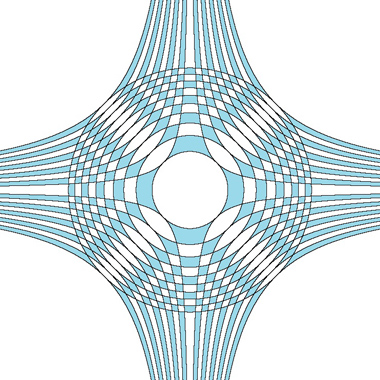Теория относительности
Задача
Даны предложения на языке ниуэ* и их переводы на русский язык. Некоторые предложения имеют больше одного варианта перевода, но эти варианты не указаны.
1. Ne kai noa a au.
Я только поел.2. Ne fai fakatino foki ne tāe ia.
Также были картины, которые он нарисовал.3. Muhu moa tūmau.
Всегда есть много птиц.4. Ne fai faiaoga e kāmuta.
У плотника были учителя.5. Ne kitia e ia a au.
Он меня увидел.6. To kai he moa ka holoholo e au e ika.
Птица, которую я вымою, съест рыбу.7. Ne totou a Sione.
Сиона читала.8. Tā tūmau e Mele e fakatino.
Меле всегда рисует картину.9. Ne kai e ika ne takafaga he tama.
Рыба, которую поймал ребенок, ела.10. To holoholo foki he tama e vaka ne tā he kāmuta.
Ребенок также вымоет каноэ, которое построил плотник.11. To muhu ika a Mele.
У Меле будет много рыбы.12. Muhu tama foki e faiaoga ka kitia he moa.
У учителя также есть много детей, которых увидит птица.13. Fai vaka a Sione ne holoholo e au.
У Сионы есть каноэ, которые я вымыл.
Задание 1. Переведите на русский язык следующие предложения. Если в каком-то предложении возможны два варианта перевода, дайте их оба.
14. Fai moa noa.
15. Ne holoholo foki he faiaoga ne takafaga e au a ia.
16. To muhu vaka e tama ka holoholo he moa.
Задание 2. Переведите на язык ниуэ:
17. Он также будет читать.
18. У Сионы была только рыба, которую съест учитель.
19. Учитель, которого увидел Меле, построил каноэ.
20. Всегда было много плотников.
Примечание. ā и ū — долгие гласные, g передает заднеязычный носовой звук, как в английском слове sing.
* Ниуэ — полинезийский язык, на котором говорит около 8000 человек на острове Ниуэ и в Новой Зеландии. Его вы также можете увидеть в задаче «Око за око».
Подсказка 1
В языке ниуэ есть специальные показатели подлежащего и прямого дополнения. Какие? На какие две группы мы можем разделить слова, имеющие эти синтаксические роли? Может ли быть такое, что один и тот же показатель с одной группой имеет одно значение, со второй — другое?
Подсказка 2
В языках мира часто бывает, что конструкции с глаголами существования или обладания («есть», «иметься у») ведут себя не так, как предложения с «обычными» глаголами. Рассмотрите эти две группы предложений по отдельности. Какой в них порядок слов?
Решение
Для начала определим порядок слов. Мы видим, что в начале предложений есть два часто повторяющихся слова: to и ne. Если выписать предложения с этими словами в два столбца, то мы заметим, что все предложения с to относятся к будущему времени, а с ne — к прошедему. Предложения в настоящем времени, видимо, никакого специального слова-показателя в начале не имеют.
Чтобы понять, как строится предложение дальше, посмотрим на какое-нибудь простое. Из предложения 7 легко заметить, что подлежащее — ‘Сиона’ — стоит на последнем месте, причем перед ним есть некоторое короткое слово а:
7. Ne totou a Sione.
Сиона читала.
Сказуемое, таким образом, должно располагаться сразу после показателя времени перед подлежащим. Чтобы разобраться, где друг относительно друга стоят подлежащее и прямое дополнение, сравним предложения 5 и 1. Общее слово в них — au; значит, это ‘я’, а ia — ‘он’. Получается, что прямое дополнение стоит после подлежащего.
1. Ne kai noa a au.
Я только поел.5. Ne kitia e ia a au.
Он меня увидел.
В предложении 1 нам еще остается узнать, что из слов kai и noa является глаголом, а что — наречием. Первое из этих слов встречается в предложениях 6 и 9, причем на той позиции, где мы ожидаем глагол, — после показателей времени; в переводах обоих этих предложений сказуемые одинаковые. Тогда noa — это наречие ‘только’. Если мы посмотрим на предложения 8 и 10, то увидим, что наречия tūmau ‘всегда’ и foki ‘также’ ведут себя так же, как ‘только’, то есть стоят после сказуемого — по меньшей мере в тех случаях, когда сказуемым выступает обычный глагол-действие, а не бытийный и не глагол обладания (эти глаголы в языках мира часто отделяются от других по каким-нибудь параметрам, в том числе синтаксическим). Теперь мы можем сформулировать в первом приближении схему простого предложения в языке ниуэ:
показатель времени (ne / ∅ / to) + сказуемое + наречия + подлежащее + дополнение
А вот предложения, в которых есть глагол существования (‘есть’ / ‘было’), действительно строятся немного по-другому. Для начала заметим, что в условии встречается два вида переводов таких предложений: ‘есть’ и ‘есть много’. Можно предположить, что значение «много» выражается каким-нибудь отдельным словом. Но предложение 3 «Всегда есть много птиц» это предположение опровергает: tūmau, как мы уже знаем, означает ‘всегда’, а moa — скорее всего, ‘птица’ (оно же встречается в предложениях 6 и 12).
3. Muhu moa tūmau.
Всегда есть много птиц.
Значит, первое слово muhu должно переводиться как ‘есть много’. Предложения 11 и 12, где оно тоже встречается, как раз имеют такие же сказуемые, причем в предложении 11 muhu стоит после временного показателя, как обычные глаголы. Если теперь мы поищем повторяющиеся слова в предложениях, которые переводятся с глаголом ‘есть/было’, то найдем слово fai. Какое же у этих предложений строение? Очевидно, если мы хотим указать на чье-то существование, то мы просто ставим глагол fai/muhu и подлежащее, как в предложениях 2 и 3. Но в каком порядке мы должны располагать обладателя и обладаемое, то есть сказать, что что-то есть у кого-то? Из предложения 11 «У Меле будет много рыбы» мы понимаем, что сразу после глагола стоит ‘рыба’, то есть обладаемое, а на последней позиции — ‘Меле’, то есть обладатель:
11. To muhu ika a Mele.
У Меле будет много рыбы.
Тут мы можем обратить внимание, что во всех предложениях с бытийными глаголами обладаемое переводится на русский язык множественным числом, хотя никаких специальных показателей числа на существительных мы не видим, причем не только в случае с ‘есть много’, но и с просто ‘есть’ (см. предложения 4 и 13). Запомним это для выполнения заданий. Наконец, важно отметить, что наречие в конструкции с существованием или обладанием стоит не до подлежащего, а после. Схема предложения с бытийными глаголами получается такая:
показатель времени + fai/muhu + обладаемое + наречия + обладатель
Теперь посмотрим на то, как устроены придаточные предложения. Сходу мы можем их разделить на две группы: стоящие в прошедшем времени и в будущем времени. В языке ниуэ также быстро находятся соответствия: придаточные первого типа присоединяются к главному предложению с помощью слова ne (предложения 2, 9, 10, 13), а второго — ka (предложения 6, 12). Попробуем разобрать предложение 6. Многие слова нам уже известны:
6. To kai he moa ka holoholo e au e ika. буд. есть ? птица буд.прид. мыть ? я ? рыба
То есть придаточные предложения имеют такой же синтаксис, что и главные: сначала идет показатель времени, который и вводит придаточное предложение, затем сказуемое, за ним — подлежащее. Придаточное вставляется в предложение сразу после слова, от которого оно зависит. Исключения из этого правила снова составляют предложения с бытийными глаголами: в предложении 13, например придаточное зависит от обладаемого, но стоит всё равно после обладателя.
13. Fai vaka a Sione ne holoholo e au. есть каноэ ? Сиона прош.прид. мыть ? я
Теперь надо разобраться с загадочными короткими словами a, e и he. Заметим, что они стоят перед каждым существительным или местоимением, кроме тех, которые расположены после бытийных глаголов. Причем перед одним и тем же существительным (местоимением) могут быть разные слова: в предложении 2 мы видим, что ‘я’ переводится на ниуэ как a au, а в предложении 13 — как e au. Очевидно, что эти слова как-то связаны с синтаксической ролью и являются чем-то вроде падежных показателей. Заметим также, что слово a появляется только перед местоимениями или именами собственными, he — наоборот, только перед остальными существительными, а e — и перед теми, и перед другими. Попробуем разобраться со словом he: выпишем все предложения, где оно встречается.
6. To kai he moa ka holoholo e au e ika.
Птица, которую я вымою, съест рыбу.9. Ne kai e ika ne takafaga he tama.
Рыба, которую поймал ребенок, ела.10. To holoholo foki he tama e vaka ne tāhe kāmuta.
Ребенок также вымоет каноэ, которое построил плотник.12. Muhu tama foki e faiaoga ka kitia he moa.
У учителя также есть много детей, которых увидит птица.
Во всех этих предложениях существительные с he выступают в роли подлежащих при переходных сказуемых. Если мы найдем такие же предложения, но с подлежащими-местоимениями и именами собственными, то перед ними увидим е:
5. Kua kitia e ia a au.
Он меня увидел.8. Tātūmau e Mele e fakatino.
Меле всегда рисует картину.
Предложения 5 и 8 еще раз доказывают нам различия между обычными существительными и местоимениями/именами собственными: в предложении 5 дополнением выступает местоимение, перед ним стоит a, а в предложении 8, где дополнение — существительное, стоит e, так же, как в предложениях 6 (e ika) и 10 (e vaka).
Однако дополнениями дело не ограничивается. Почему-то мы видим а перед подлежащим-местоимением, как в предложении 1, и е перед подлежащим-существительным, как в предложении 9. Чем они отличаются от предложений 5 и 8?
1. Ne kai noa a au.
Я только поел.9. Ne kai e ika ne takafaga he tama.
Рыба, которую поймал ребенок, ела.
Очевидно, что это предложения с непереходным глаголом. Таким образом, подлежащие при непереходном глаголе и дополнения при переходном получают падежный показатель a (для местоимений и имен собственных) или e (для нарицательных), а подлежащие при переходном глаголе получают показатель e (для местоимений и имен собственных) или e (для нарицательных). Такая система называется эргативно-абсолютивной, о ней можно подробнее почитать в послесловиях к задачам «Lupus homini amicus est» и «Австралийская вендетта»):
| Подлежащее непереходного / дополнение переходного глагола | Подлежащее переходного глагола | |
| Местоимения / имена собственные | a | e |
| Нарицательные существительные | e | he |
Наконец, отметим, что в предложениях с бытийными глаголами обладатель обозначается так же, как подлежащее непереходного глагола, а обладаемое не получает никакого показателя вообще.
Ответы:
14. Есть только птицы.
15. Учитель, которого я поймал, также вымыл его.
16. У ребенка, которого вымоет птица, будет много каноэ.
У ребенка будет много каноэ, которые вымоет птица.17. To totou foki a ia.
18. Ne fai ika noa a Sione ka kai he faiaoga.
19. Ne tāhe faiaoga ne kitia e Mele e vaka.
20. Ne muhu kāmuta tūmau.
Послесловие
Придаточные предложения, которые зависят от существительного и отвечают на вопрос «какой?», называются относительными — вы наверняка помните это из школьной программы. Параметров варьирования, по которым разные типы относительных предложений отличаются друг от друга как внутри одного языка, так и между разными языками, очень много, и именно о них мы поговорим в этом послесловии.
Для начала определимся с некоторыми основными терминами. В лингвистике для относительных придаточных используется термин релятивные, а явление, когда к существительному присоединяется такое придаточное, — релятивизацией. Операция релятивизации связывает некоторую синтаксическую роль в зависимом предложении (или клаузе — таким термином лингвисты обозначают синтаксическую единицу, примерно равную простому предложению) с некоторой синтаксической ролью в главном предложении и устанавливает, что эти две роли выполняет один и тот же участник. Синтаксическая роль в зависимой относительной клаузе называется релятивизируемой позицией или мишенью, а слово в главном предложении, от которого зависит придаточное, — вершиной. Например, в (1) вершиной релятивной клаузы будет прямое дополнение главной клаузы кошка, а мишенью — подлежащее релятивной клаузы. В примере (2), наоборот, вершина — это подлежащее главной клаузы кошка, а мишень — прямое дополнение зависимой.
(1) Вася поймал кошку, которая его поцарапала.
(2) Кошка, которую поймал Вася, его поцарапала.
Но не любая роль в предложении может быть мишенью релятивизации. Лингвисты-типологи Э. Кинэн (Edward L. Keenan) и Б. Комри (Bernard Comrie) в 1997 году впервые сформулировали закономерность, описывающую тот факт, что синтаксические роли различаются по своему статусу относительно возможности релятивизации. Эта закономерность представляет из себя иерархию, которая получила название иерархии доступности, или иерархии Кинэна-Комри (3) (непрямое дополнение — это такое дополнение, которое стоит в дательном падеже или аналогичной форме и обычно выражает адресата или другого участника-«получателя»).
(3) Подлежащее > Прямое дополнение > Непрямое дополнение > Косвенное дополнение > Посессор (обладатель) > Объект сравнения
Для языков с эргативно-абсолютивным строем первые два пункта иерархии выглядят так (4), далее всё то же самое:
(4) Абсолютив (прямое дополнение переходного глагола или подлежащее непереходного глагола) > Эргатив (подлежащее переходного глагола)
Иерархия доступности делает следующие предсказания. Во-первых, если в языке можно релятивизировать какую-то позицию, то в нем можно релятивизировать все позиции левее (из этого следует, что в любом языке можно релятивизировать подлежащее). Во-вторых, для каждой позиции на иерархии возможны языки, которые могут ее релятивизировать с помощью некоторой стратегии, но не могут использовать эту же стратегию для позиций правее.
В некоторых языках иерархия выражается в виде прямых запретов. Например, в баскском языке можно релятивизировать всё до непрямого дополнения включительно, а в чукотском — только до абсолютива, но никого правее по иерархии (5, см. Antipassive Constructions).
(5) a. pəkərə-lʔ-ən ŋinqey. приходить-ПРИЧ-АБС мальчик
‘Мальчик, который пришел’.
b. *ŋinqey rəyagtala-lʔ-ən tumgətum. мальчик.АБС спасать-ПРИЧ-АБС друг
Ожид.: ‘Друг, который спас мальчика’.
Часто в таких языках в случае, если мы хотим релятивизировать какую-нибудь другую синтаксическую роль, мы должны сначала поменять залог предложения, чтобы «поднять» нужного нам участника в позицию подлежащего (о том, что такое залог, см. в послесловии к задаче «Око за око»). В других языках, где грамматика позволяет тем или иным способом релятивизировать всю иерархию, она находит отражение в частотности: относительные клаузы, относящиеся к подлежащему, встречаются гораздо чаще, чем к косвенному дополнению.
Выше мы упоминали стратегии релятивизации — то есть то, как зависимая клауза выглядит и как она присоединяется к главной. Давайте посмотрим, что встречается в языках мира.
Релятивная клауза может быть финитной, то есть содержать в качестве сказуемого спрягаемый глагол, у которого есть время. Финитная клауза обычно присоединяется к главной с помощью комплементайзера — под этим термином объединяются все единицы, вводящие в сложное предложение придаточное. В предложениях (6) это союзы (как, что...), в предложениях (7) — местоимения-наречия (где, когда, откуда...), а в предложениях (8) — относительные местоимения (который, чей, кто, сколько...; их особенность в том, что они с помощью своей формы выражают синтаксическую роль мишени релятивизации).
(6) a. The person that I saw yesterday went home. ‘Человек, которого я вчера увидел, пошел домой’.
b. Неделя прошла с того дня, как Петя обещал Кате позвонить.
(7) a. The city where I grew up is very beautiful. ‘Город, где я вырос, очень красивый’.
b. Лабаз ― стог или дерево, куда от страху залезают охотники, караулящие медведя. [Ф. Искандер. Сандро из Чегема (1989)]
(8) a. The person whom I saw yesterday went home. ‘Человек, которого я вчера увидел, пошел домой’.
b. Таким образом, он продолжает традицию австрийского физика Людвига Больцмана, чей памятник украшает открытая им формула энтропии. [Александр Волков. Миры Стивена Хоукинга (2003)]
С комплементайзерами — относительными местоимениями связано явление под забавным названием «эффект крысолова». Относительные местоимения являются полноправными членами зависимого предложения — подлежащими, прямыми дополнениями и так далее. Однако в русском языке (и во многих других) они стоят не на том месте, где стояли бы эти члены в простом или в главном предложении, а в самом начале, ср. примеры (9). В современных теориях синтаксиса это называется относительным передвижением: относительные местоимения как бы не хотят оставаться на своей обычной позиции и переезжают вперед.
(9) a. Вася увидел собаку.
b. Я покормила собаку, которую Вася увидел __.
А теперь посмотрим на предложение (10a). Если мы захотим сделать из него придаточное и заменим слово мужчины на относительное местоимение чей, то это местоимение захочет переехать вперед. При этом предложение (10b), где оно переехало, хоть и может встретиться в литературном тексте, звучит менее естественно и нейтрально, чем предложение (10с). Но у слова руку нет никаких причин переезжать — это просто прямое дополнение при сказуемом, ему самому вообще всё равно, в главной или в зависимой клаузе оно находится. Что же происходит? Местоимение чей, передвигаясь в начальную позицию зависимой клаузы, «зовет» за собой свои зависимые слова, как гамельнский крысолов зовет за собой крыс — отсюда и название эффекта. Перетягиваться за местоимением могут и очень большие части предложения, как в примере (10d). Объем «сферы влияния» относительного местоимения может быть разным в разных языках: например, в русском языке относительные местоимения, находящиеся в составе предложной группы, обязательно зовут за собой предлог, а вот в английском он может «зависать» на месте (11).
(10) a. Я пожимал руку мужчины.
b. Мужчина, чью я пожимал руку, был одет в дорогое пальто.
c. Мужчина, чью руку я пожимал __, был одет в дорогое пальто.
d. Мужчина, чью крепкую руку с ухоженными ногтями я пожимал __, был одет в дорогое пальто.
(11) a. Актер, о котором я говорила __, выиграл «Оскар».
b. The actor whom I was talkim about __ won an “Oscar”.
Также комплементайзер может быть нулевым, тогда получится бессоюзная релятивизация. В русском языке она не очень частотная и характерна скорее для разговорной речи (12), а вот в английском, например, опустить союз that можно гораздо свободнее (12). Бывают языки, где такое варьирование не опциональное, а зависит от каких-то факторов. В арабском, например, нулевой комплементайзер используется в тех случаях, когда в вершине зависимой клаузы находится неопределенное существительное.
(12) a. I really liked the picture (that) you bought. 'Мне очень понравилась картина, (которую) ты купил'.
b. Есть такие люди... делают сильнее [Татьяна Григорьева. Стихи.ру (2016)]
Вершина, кстати, тоже может быть нулевой — такие придаточные называются безвершинными (13).
(13) Кто хотел, уже успел купить телефон по скидке.
Во всех стратегиях выше позиция мишени релятивизации оставалась пустой. Однако возможны конфигурации, когда в предложении есть и комплементайзер, и при этом элемент в позиции релятивизируемого члена предложения. Такие элементы называются резумптивными (или интрузивными) местоимениями. В русском языке они также довольно редкие и встречаются скорее в разговорной речи (14), а вот в арабском, иврите, фарси или в языке бабунго (Камерун) в примере (15, см. Relativization on Subjects) употребляются часто.
(14) У вас есть такие песни, которые, когда их слушаешь, то думаешь о каком-то городе/стране? [Яндекс]
(15) mǝ̀ yè wǝ́ ntɨ́ǝ ƒáŋ ŋwǝ́ sɨ́ sàŋ ghɔ̂ я видеть человек который кто он ПРОШ бить ты
‘Я увидел человека который тебя избил‘.
Другая интересная стратегия — релятивные клаузы с внутренней вершиной. В таких предложениях вершина релятивной клаузы располагается в самой клаузе. Аналогом этой конструкции в русском было бы предложение типа «Я увидел человека вчера пошел домой» в значении «человек, которого я увидел вчера, пошел домой». Внутренняя вершина встречается в языке кумиай (Мексика) (16, см. Order of Relative Clause and Noun), а также, например, в навахо и тибетском.
(16) 'ehatt gaat akewiivech chepam. собака кошка гнаться убежать
‘Кошка, за которой гналась собака, убежала’
Наконец, релятивные клаузы могут быть и нефинитными, то есть не содержать спрягаемого глагола. Например, в качестве релятивных клауз могут выступать причастия (17), а также номинализации — существительные, образованные от глаголов, как, например, английское слово destruction обращовано от глагола destruct. Если перевести эту стратегию на русский дословно, получится что-то вроде «человек моего увидения вчера пошел домой». Релятивные номинализации встречаются, например, в турецком (18, см. Relativization on Subjects) и в языке ава-пит (Колумбия, Эквадор) (19, см. Order of Relative Clause and Noun).
(17) Люди, носящие очки.
(18) öğrenci-nin al-dığ-ı kitap. студент-РОД купить-НМЛЗ-его книга
‘Книга, купленная студентом’ (досл. «студента покупание книга»)
(19) nana pishkatu paynintu-mika-ta pyantaw. я рыба продавал-НМЛЗ-ВИН ударил
‘Я ударил того, кто продавал рыбу’ (досл. «я рыбопродавание ударил»)
Кроме синтаксических параметров, о которых мы говорили выше, релятивные клаузы можно классифицировать и по их значению. В этом отношении выделяют две большие группы: аппозитивные и рестриктивные. Аппозитивные относительные предложения как бы добавляют характеристику к объекту, который находится в нашем фокусе внимания:
(20) Маша увидела Петю, который нес в руках большой арбуз.
Рестриктивные относительные предложения ограничивают подмножество в некотором множестве:
(21) Студенты, которые недовольны своей оценкой за контрольную, могут прийти на пересдачу во вторник.
Бывает такое, что одно и то же предложение имеет два прочтения. При аппозитивном прочтении пример (22) будет означать, что Катя нашла самую большую бабочку в мире, которая — так получилось — обитает в Южной Америке. А при рестриктивном получится, что Катя нашла самую большую бабочку из тех, кто живет в Южной Америке — но не факт, что это самая большая бабочка на Земле.
(22) Катя нашла для своей коллекции самую большую бабочку, живущую в Южной Америке.
Особый интерес релятивных клауз для лингвистики заключается в их рекурсивности: мы можем «нанизывать» клаузы бесконечно, добавляя зависимые к зависимым. Самый известный пример, это, конечно, стихотворение о доме Джека:
(23) Вот два петуха, [которые будят того пастуха, [который бранится с коровницей строгою, [которая доит корову безрогую, [лягнувшую старого пса без хвоста, [который за шиворот треплет кота, [который пугает и ловит синицу, [которая часто ворует пшеницу, [которая в темном чулане хранится в доме, [который построил Джек]]]]]]]]]
Во всех ли языках возможно такое вложение структур друг в друга? В середине нулевых вышла книга Д. Эверетта, исследовавшего язык народа пираха в Амазонии, которая навела большой фурор в науке о языке. Эверетт утверждал, что язык пираха уникален с лингвистической точки зрения, и одной из уникальных черт является отсутствие относительных придаточных в принципе (а еще категории времени, обозначений цветов и числительных) — а значит, отсутствие рекурсии, что противоречит основополагающему принципу генеративной грамматики Н. Хомского, одного из самых влиятельных лингвистических течений современности. Но с его подходом согласны далеко не все ученые. Тем, кто интересуется дискуссией вокруг удивительного языка и теоретических выводов, я могу порекомендовать книгу самого Эверетта «Не спи — кругом змеи!» и «Язык, мышление и картина мира идейцев пираха(н)» с критическим разбором от уважаемых российских лингвистов (обзор книги можно почитать здесь).
Задача (в измененной версии) использовалась на 2 туре Североамериканской олимпиады по компьютерной лингвистике (NACLO) в 2022 году.
Автор задачи — Сими Хелльстен
Адаптация задачи для русского языка, решение и послесловие — Дарья Белова
-
Представляется, что некоторые предложения переведены не совсем корректно. Предложение 5: д.б. "Я его увидел", а не он меня, т.к. действующее лицо a au - я, объект e ia - его.
Предложение 6: д.б. "Птица съест рыбу, которую я помою". Вообще ka - который - употребляется только в том случае, если субъект, выполняющий действие, находится в первой части предложения. Аналогично предложение 12: д.б. "У учителя много детей (учеников), которые увидели (в смысле рассмотрели, изучили) птицу". И предложение 16 из задания: д.б. "У того ребёнка будет много (времени для прогулки на) каноэ, который помоет (в смысле "почистит, выпотрошит") птицу".
Предложение 14, скорее, переводится как "Есть только птица" (скорее всего, имеется в виду "на обед").
Предложение 15, вероятно, имеет другой смысл, а именно "Учитель помыл также меня, когда меня поймал", на что указывает то, что субъект действия a iu - он, а объект e au - меня.
Последние задачи