Дисковая аккреция
Задача
Центральную роль в теории аккреции на компактные объекты (нейтронные звезды и черные дыры) играет понятие дисковой аккреции. В задаче Критическая аккреция мы рассмотрели так называемый критический режим сферически симметричной аккреции, когда вещество падает на центральный объект со всех сторон. Но сферически симметричная аккреция почти никогда не реализуется в реальных астрофизических системах: давление и плотность обычно распределяются таким образом, что аккрецию можно назвать практически двумерной.
В этой задаче предлагается оценить толщину этого диска и убедиться, что при данных параметрах аккреционный диск действительно очень тонкий.

Самогравитацией диска можно пренебречь, поэтому в простейшем случае на кусочек вещества в диске действуют только две силы — притяжение центрального объекта и давление (рис. 1).
1) Приняв, что ΔP/ρ ≈ cs2 (cs — скорость звука в среде), и вспомнив определение кеплеровской скорости, оцените отношение H/R.
2) Оцените численное значение этого отношения на расстоянии 10 гравитационных радиусов от центрального объекта массой в 2 солнечные, если температура вещества в диске равна 107 K, и оно состоит исключительно из водорода. Сделайте ту же оценку для расстояния 1000 гравитационных радиусов, если температура вещества ~104 K. Насколько диск тонкий?
Подсказка 1
В вертикальном направлении давление уравновешивает вертикальную компоненту гравитационной силы. А это — просто сама гравитационная сила, помноженная на H/R, в предположении, что это отношение мало (позже можно будет убедиться, что предположение было верным): в данном случае синус или тангенс — одно и то же, так как угол предполагается маленьким.
Подсказка 2
По сути, соотношение из первого пункта задачи — это определение скорости звука в жидкой или газообразной среде: ее квадрат равен отношению изменения давления к изменению плотности: cs2 ≈ ΔP/Δρ ≈ P/ρ. Численно это значение можно получить из закона Клапейрона — Менделеева: P = nkT, где n — концентрация, T — температура, а k — постоянная Больцмана.
Решение
По сути на элемент маленького объема вещества в аккреционном диске действуют две силы: сила притяжения со стороны центрального объекта и сила давления. В вертикальном направлении они уравновешивают друг друга. Проекция гравитационной силы на вертикальное направление записывается так:
\[ \frac{GM\Delta m}{R^2}\sin{\alpha}, \]где α — угол между «горизонталью» и наклоном границы диска (рис. 1). В предположении, что диск тонкий, верны соотношения \(\sin{\alpha}\approx \alpha\approx H/R\). Значит, равенство вертикальных сил можно записать в таком виде:
\[ \Delta P \Delta S = \frac{GM\Delta m}{R^2}\frac{H}{R}. \]Массу кусочка вещества диска Δm можно выразить через плотность и его размеры: Δm = ρΔSΔz ≈ ρΔSH. Приняв ΔP ≈ P, получим:
\[ \frac{H}{R}\sim \left(\frac{P/\rho}{GM/R}\right)^{1/2}. \]Как уже отмечалось выше, \(\sqrt{P/\rho}\) — это скорость звука, а \(\sqrt{GM/R}\) — кеплеровская скорость кругового движения на орбите радиуса R. Получается, что по порядку величины отношение толщины к радиусу равно отношению локальной скорости звука к соответствующей кеплеровской скорости.
Из уравнения Клапейрона — Менделеева P = nkT, подставив n = N/V, где N — полное число частиц в объеме V (напомним, что по условию диск состоит из водорода, поэтому масса каждой частицы равна mp — массе протона), и разделив обе части уравнения на ρ = Δm/V, получим:
\[ c_s^2 \sim \frac{P}{\rho} \sim \frac{kT}{\Delta m/N} = \frac{kT}{m_p}. \]Пользуясь этим равенством, приходим к соотношению
\[ \frac{H}{R} \sim \left(\frac{kT/m_p}{GM/R}\right)^{1/2}. \]На расстоянии в a гравитационных радиусов (\(R_g=\frac{2GM}{c^2}\)) от центрального объекта, кеплеровская скорость равна \(\sqrt{GM/aR_g} = c/\sqrt{2a} \sim c/\sqrt{a}\). Таким образом, получаем компактное выражение, не зависящее от массы центрального объекта:
\[ \frac{H}{R} \sim \left(\frac{akT}{c^2 m_p}\right)^{1/2}. \]На расстоянии 10 гравитационных радиусов при температуре 107 K получим H/R ≈ 3×10−3, а на расстоянии 1000 гравитационных радиусов при температуре 104 K — H/R ≈ 10−3. В обоих случаях толщина диска очень маленькая, то есть «дисковое» приближение действительно оправдано.
Послесловие
В 1960-х годах впервые начались эксперименты по поиску источников рентгеновского излучения в космосе. Для этого запускались ракеты, которые на короткое время выводили рентгеновские детекторы в тонкие слои атмосферы. Траектория подбиралась так, чтобы у детекторов было достаточно времени проанализировать значительную часть неба.
Прорыв был совершен в 1962 году группой под руководством Риккардо Джаконни (лауреат Нобелевской премии по физике 2002 года «за создание рентгеновской астрономии и изобретение рентгеновского телескопа»), когда впервые в истории удалось найти источник рентгеновского излучения вне Солнечной системы — Sco X-1 (Скорпион X-1). Им, как позже было предложено Иосифом Шкловским (в 1967 году) и подтверждено дальнейшими наблюдениями, оказалось излучение вещества, падающего на нейтронную звезду массой 1,4 солнечных, которая перетягивает на себя вещество обычной звезды с массой всего 0,4 солнечных.

Рис. 2. Слева — запуск одной из ракет, с помощью которых в 1960-х годах детектировали рентгеновское излучение вне Солнечной системы. Справа — первые наблюдения источника Sco X-1 в 1962 году. Стрелками отмечены данные, соответствующие излучению известных источников — центра Галактики, Солнца и т. д. Горизонтальная ось — угол поворота детектора, вертикальная ось — число зарегистрированных рентгеновских фотонов. Изображения с сайтов cosmictimes.gsfc.nasa.gov и heasarc.gsfc.nasa.gov
К середине 1970-х годов, после запуска первого рентгеновского спутника UHURU, было открыто и идентифицировано свыше 300 таких источников, в том числе и экстремально яркий Cyg X-1 (Лебедь X-1) — черная дыра массой 10–20 масс Солнца, перетягивающая на себя вещество с обычной звезды массой 20–40 масс Солнца. Такие объекты получили название рентгеновские двойные (x-ray binaries), их классифицируют в зависимости от массы звезды-донора на маломассивные, массивные и двойные промежуточных масс.
Объект Cyg X-1 в том числе известен и тем, что именно из-за него в 1975 году заключили исторический шуточный спор Стивен Хокинг и Кип Торн о проблеме существования черных дыр в контексте квантовой теории поля. Хокинг ставил на то, что в этой системе нет черной дыры. По его словам, это была своеобразная страховка: он посвятил немало времени теории черных дыр и ему было бы совсем обидно, если бы в итоге оказалось, что их не существует. Но в таком случае утешением была бы победа в споре, а призом — четырехлетняя подписка на сатирический журнал Private Eye. Торн в итоге выиграл спор в начале 90-х годов, когда наблюдательных данных стало достаточно для почти полной уверенности в существовании там черной дыры. По условиям спора он получил годовую подписку на Penthouse.

Рис. 3. Слева — Марджори Таунсенд и Бруно Росси у спутника UHURU. Справа — карта всех найденных этим спутником рентгеновских источников: большая часть, конечно же, лежит в плоскости галактики, так как все источники находятся в Млечном Пути. Изображения с сайтов ru.wikipedia.org и history.nasa.gov
К 1970-м годам в целом стало понятно, что аккреция обычной звезды на маленький плотный компаньон (нейтронную звезду или черную дыру) — это вполне нормальное явление во Вселенной, и появилась необходимость построить целостную модель такой аккреции, чтобы объяснить и описать возникающее рентгеновское излучение.
В конце 1960-х и начале 1970-х годов появился ряд работ по описанию такой аккреции, но ключевой и самой известной стала статья Николая Шакуры и Рашида Сюняева 1973 года, которая «по совместительству» является до сих пор самой цитируемой статьей в теоретической астрофизике за всю историю. В том же году появилось обобщение теории Шакуры — Сюняева с учетом общей теории относительности, написанное Игорем Новиковым и Кипом Торном, который, кстати, в то время в течение нескольких семестров преподавал и работал в МГУ.
Стоит отметить, что позже стало понятно, что теория дисковой аккреции не является универсальной. Несмотря на то, что эта модель достаточно хорошо описывает аккрецию в критическом режиме (когда темп аккреции близок к эддингтоновскому пределу), в других режимах аккреционный диск может разрушаться или раздуваться, образуя, к примеру, так называемые «польские пончики» (в сверхэддингтоновском пределе).
В целом, различают три режима аккреции:
«Доэддингтоновский», когда темп сильно меньше эддингтоновского предела. В таком случае вещество очень слабо излучает (теряет энергию), и из-за этого накопленная в результате падения энергия уходит на нагрев и раздувание диска.
Эддингтоновский, когда темп примерно равен критическому пределу. В таком случае вся (или почти вся) энергия от падения уходит в излучение (теряется), и диск является достаточно холодным чтобы оставаться тонким. Как ни странно, с точки зрения компьютерных симуляций, этот случай самый тяжелый, так как помимо охвата огромного расстояния от центрального объекта, нужно также «разрешить» тонкий диск, толщина которого в 100−1000 раз меньше самого расстояния. Приходится делить пространство на очень много клеток, что вычислительно очень долго и затратно. Поэтому пока такие глобальные симуляции с тонким диском делались только для аккреции на белые карлики, где отношение толщины диска к расстоянию не такое маленькое (рис. 4, слева).
Сверхэддингтоновский, когда темп аккреции значительно превышает эддингтоновский предел. Из-за огромного количества падающего вещества излучение не успевает покинуть аккреционный диск и поглощается внутри, повторно нагревая вещество. Из-за этого диск набухает, образуя толстые диски и «польские пончики» (рис. 4, справа).

Рис. 4. Слева — компьютерная симуляция дисковой аккреции на белый карлик в критическом режиме. Цвета обозначают энергию магнитного поля. Изображение из статьи W. Ju et al., 2016. Global MHD Simulations of Accretion Disks in Cataclysmic Variables (CVs): I. The Importance of Spiral Shocks. Справа — симуляция сверхэддингтоновской аккреции. В левой части рисунка показано распределение плотности вещества в диске, в правой — радиальная компонента электрического поля. Видно, что в таком режиме аккреционный диск вовсе не тонкий. Изображение из статьи Y.-F. Jiang et al., 2014. A Global Three Dimensional Radiation Magneto-hydrodynamic Simulation of Super-Eddington Accretion Disks
Несмотря на то, что в реальности дисковая аккреция реализуется в узком классе объектов, и что этот процесс (даже в тонком диске) далеко не такой простой и стабильный, в общих чертах предсказания Шакуры и Сюняева о свойствах спектральных наблюдений аккреционных дисков оправдались. Так, по предсказаниям авторов, помимо излучения самого диска (области \(\nu^2\) и \(\nu^{1/3}\) на рис. 5, слева) должно было быть излучение в области высоких энергий (до 10 кэВ, рентгеновский диапазон), со спектром \(\nu^{-1}\).
Если основная область (горб на низких энергиях) — это обычное «чернотельное» излучение нагретого вещества в диске, то «хвост» на высоких энергиях возникает по двум причинам (рис. 5, справа):
1) комптоновское рассеяние фотонов на поверхности диска: фотоны, благодаря рассеянию, набирают энергию;
2) возникновение так называемой короны — сильно нагретого из-за поглощения высокоэнергичных фотонов вещества непосредственно над поверхностью диска.

Рис. 5. Слева — спектр, предсказанный Шакурой и Сюняевым. Справа — иллюстрация переотражения фотонов (комптонизации) и возникновения короны над поверхностью диска из оригинальной статьи Шакуры и Сюняева 1973 года
В 90-х годах впервые начали составлять детальные спектры таких дисков, и картина была очень похожей (рис. 6): горб на низких энергиях (соответствующий диску), высокоэнергичный хвост (излучение короны) и излучение комптонизированных фотонов. В спектре отраженных фотонов можно также заметить известную линию излучения атома железа на 6,4 кэВ, возникающую из-за поглощения рентгеновского фотона (большой пик на фиолетовой кривой).

Рис. 6. Спектр аккреционного диска двойной системы Лебедь X-1. Спектр разбит на три компоненты согласно теоретическим предсказаниям: излучение самого диска, излучение короны над диском и переотраженные от поверхности (комптонизированные) фотоны. Рисунок из статьи M. Gierliński & A. A. Zdziarski, 1999. Accretion Disk in CYG X-1 in the Soft State
Однако все оказалось не так просто, как хотелось бы. В том же источнике Лебедь X-1 позже заметили сильную временную зависимость спектра: спектр менялся в течение какого-то времени от «жесткого» (красная линия на рис. 7) до «мягкого» (черная линия на рис. 7). Это связали с периодическим «испарением» самой внутренней части диска, расположенной совсем близко к черной дыре, из-за слишком большого потока высокоэнергичных фотонов. Такую переменность позже стали замечать и в других рентгеновских двойных, но пока окончательной теории этого явления не существует.

Рис. 7. Два состояния аккреционного диска Лебедь X-1. График из статьи S. Yamada et al., 2013. Rapid Spectral Changes of Cygnus X-1 in the Low/Hard State with Suzaku
-
Айк, так любое вращающееся облако барионной материи в процессе эволюции (ну пусть это будет протопланетное облако) превращается в блин? За счет чего?
А почему облако темного вещества не превращается в блин? Попов в одной из лекций помню говорил, что облако темной материи "не умеет" избавляться от орбитального момента (и поэтому плохо акрецирует на центральный объект(если он есть). А почему так?-
Только давайте с самого начала различать 2 вещи: превращение вращающегося облака в диск и аккреция этого диска. Причины этих двух вещей похожи, но отличаются.
Про первое. Да, если есть какой-нибудь канал трения, потери момента, излучения и т.д., всё сплющивается в блин. Пример: в эллиптических галактиках это подавлено, так как межзвёздного газа меньше, чем в спиральных, поэтому они не сплющиваются.
По этой же причине тёмная материя не может сплюснуться в диск: у неё нет никаких механизмов "трения".
Про второе. Причина того, почему диск вращающегося вещества не просто сидит на стабильных орбитах, а аккрецирует тоже связана с "трением" (или как вы сами сказали: потерей углового момента), но это "трение" не совсем обычное. Там реального трения между слоями жидкости (типа молекулярного) нет, а "трение" там реализуется посредством плазменных неустойчивостей (см. магниторотационная неустойчивость). С этим эффектом связана офигительная история (его как причину аккреции открыли только в середине 90-х, за что я бы, конечно, дал Нобелевскую Премию как минимум), и об этом я надеюсь сделать ещё одну задачку в будущем.-
1)да-да, чтоб не путаться - важно подчеркнуть, что превращение в диск и дисковая акреция - разные вещи, у меня немножко сумбурно сформулировано все в куче
2)про диск не совсем понятно: понятно, что если есть любые механизмы взаимодействия частиц, то таким образом идет диссипация энергии и облако уплощается, но главный вопрос :почему и как именно оно не сжимается (компактифицируется сохраняя сферическую симметрию ), а именно уплощается . Возможно механика проста, но не могу сообразить.Что заставляет частицы на высоких широтах оседать к экватору? На пальцах эту механику можно сформулировать?
3)про акрецию понял, что есть просто специфический механизм диссипации или перераспределения орбитального момента (это связано с экстремальными физическими условиями в акреционном диске) и это ведет к потере момента и оседанию на центральное тело-
Если вы не против, скопирую свой же ответ из другого места на этот вопрос.
"Ключевая вещь здесь - это времена релаксации, т.е. время, за которое энергия "транслируется" из одной части в другую внутри системы. У эллиптических галактик эти времена релаксации ужасно большие, тогда как у плоских - достаточно малые именно за счет наличия газа. Т.е. эллиптические галактики за время жизни Вселенной ещё не успели релаксировать в плоские.
За некоторое время (которое называют динамическим, обычно это несколько оборотов вокруг центра) кинетическая и потенциальная энергии распределяются так, что исчезают радиальные скорости, и все дружно начинают вращаться по окружностям (и начинает выполняться вириальная теорема).
Затем за время, которое называется временем релаксации (о котором я писал выше), происходит минимизация потенциальной (гравитационной) энергии и приводит к тому, что частицам становится выгоднее двигаться в одной плоскости, чтобы быть максимально далеко друг от друга. Добавьте к этому всему закон сохранения углового момента, и вы получите выделенное направление, перпендикулярно которому и возникнет эта сама плоскость."
Т.е. если вам аргумента "минимизация потенциальной энергии" достаточно, то всё ок. На английском есть ещё видео minutephysics: https://www.youtube.com/watch?v=tmNXKqeUtJM.
Мне вот недостаточно, поэтому я в своё время копался в этом. Этот процесс на пальцах описать очень трудно, можете поискать по ключевым словам интенсивная(?) релаксация (англ. violent relaxation), это коллективный гравитационный эффект, довольно сложный для описания. Его нормально описали только в конце 60-х. -
-
-
-
)
а мне вот не только "минимизация потенциальной энергии" невдомек, но и "вириальная теорема", и "транслирование энергии". И это все по-русски, не по-агглицки...
Буду потихоньку читать, лишь страшно, что там все непопулярно - чем дальше, тем больше непонятных слов.
а вот еще вопрос, надеюсь, ответ меня не запутает: о каком давлении речь вот тут: "действуют две силы: сила притяжения ... и сила давления"?
Расскажите, пожалуйста, кто, на кого и в каком направлении давит?
-
Ну можно по порядку. Вириальная теорема говорит о том, что любая система с каким-нибудь взаимодействием между её частями (например много гравитирующих тел, или газ и т.д.) стремится к состоянию, где её кинетическая энергия и потенциальная энергия примерно равны по величине.
Соответственно если у вас система с огромной потенциальной энергией, то она будет со временем стремиться к её минимизация так, чтобы выполнялась вириальная теорема.
Про давление, аккрецирующее вещество - это по сути ионизированный газ (т.е. протоны отдельно, электроны отдельно), это ещё называется плазмой. У плазмы как и у любого газа есть внутреннее давление просто из-за того, что частицы движутся с какой-то скоростью и не дают этому газу схлопнуться.
Последние задачи


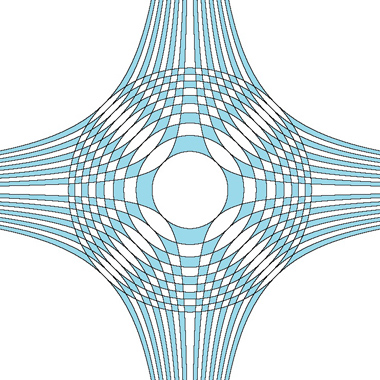












Рис. 1. Схема системы, в которой идет аккреция: аккреционный диск в разрезе и центральный объект. Обозначения: M — масса центрального объекта, Δm — масса кусочка вещества аккреционного диска, R — расстояние от него до центрального объекта, H — характерная толщина диска