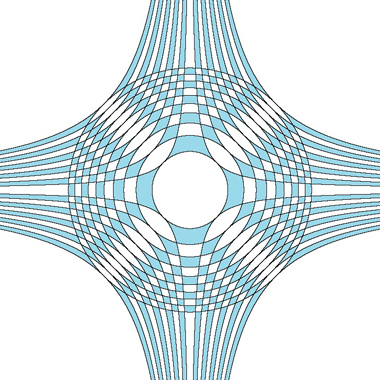Профессор Хибара и медный купорос
Задача
Познакомьтесь с профессором Хибарой. Несмотря на скверный характер и плохое здоровье, эта женщина чрезвычайно востребована в профессиональной среде благодаря уникальному таланту диагноста. Возможно, профессор Хибара кого-то вам напомнит, но это явно случайное совпадение.
Однажды хмурым осенним утром в дверь кабинета профессора Хибары постучали.
— Войдите! — хрипло сказала профессор, поспешно вставляя искусственный глаз, пристегивая протез руки и поправляя корсет позвоночника.
Дверь открылась, и на пороге показался ассистент профессора Хибары, молодой доктор Николаев. Доктор был печален; он с трудом ввел в кабинет очень странного юношу. Юноша бормотал что-то себе под нос, руки, ноги и голова у него крупно дрожали. В ответ на удивленный взгляд профессора Хибары он вначале замер, потом вздрогнул и, наконец, уперся глазами в пол и долго еще не поднимал их.
— Необычайно грустный и загадочный случай, — скорбно произнес доктор Николаев. — Мужчина, восемнадцать лет, около месяца назад начали проявляться тяжелые нейропсихические симптомы. Аберрантное поведение. Ворвался в школу, которую только весной закончил с медалью, устроил отвратительную сцену у директора. Пытался избить отчима. Был госпитализирован. Проявился промискуитет... он смог вступить в близкие отношения абсолютно со всеми молодыми медсестрами в больнице, в которой лежал, — говоря это, благовоспитанный доктор Николаев порозовел от смущения. — Крайняя импульсивность, расстроенность сознания. Первоначально был поставлен диагноз «шизофрения», но затем...
— Руки прочь! — закричал вдруг юноша высоким и чистым голосом, а затем нежно произнес, бегло взглянув на пятидесятилетнюю грузную профессора Хибару: — Детка, вы так молоды и красивы, вы мне не враг, не враг. Я вернусь, чтобы воскреснуть. Доктор, у вас нет хлеба с маслом? Я хочу прилепить его к потолку.
Доктор Николаев молча и печально смотрел на несчастного юношу. Профессор Хибара внимательно взглянула на пациента своим единственным здоровым глазом, а затем вопросительно посмотрела на доктора Николаева.
— Да... гм, — доктор Николаев откашлялся и продолжал: — Вначале был поставлен диагноз шизофрения, но затем мы по настоянию его матери провели более подробное обследование и...
— Не надо, не надо, не надо, детка, я здоров, всё будет хорошо, — горестно прошептал юноша, а затем гаркнул: — Вольно! Смирно! Руки за голову! Замолчите, замолчите, замолчите!
— ...И выяснилось, что уровень меди в моче чрезвычайно высок, моча была буквально синего цвета, а уровень меди в сыворотке крови крайне низок. Кроме того, наблюдался тремор, необычайно быстро усиливавшийся... (Как будто по заказу, у пациента затряслись руки, ноги, голова и нижняя челюсть.) Цирроз печени если и был, то на ранних, сложно диагностируемых стадиях. Когда он еще был в более вменяемом состоянии, то говорил, что аналогичными симптомами страдали несколько членов его семьи — правда, в настоящее время умерших. Одним словом, мы уже собирались поставить диагноз «болезнь Вильсона», но...
— У офтальмолога были? — невежливо перебила профессор Хибара.
— Несколько раз пытались провести офтальмологическое обследование, но каждый раз у пациента начинались такие странные припадки...
Юноша сел на пол и зарыдал.
— Роли озвучивали я, я, я и я, — бормотал он сквозь слезы. — Кинокомпания «Метро-Голдвин-Майер» прощается с вами и желает вам приятного полета...
Профессор Хибара вперила в пациента долгий неподвижный взгляд, а затем вновь требовательно взглянула на доктора Николаева.
Доктор смущенно откашлялся и добавил:
— Собственно, всё это было бы вовсе не удивительно, если бы не один факт. Мне показалось, что совершенно необходимо сделать пациенту томограмму, чтобы посмотреть, насколько далеко зашли патологические процессы в мозге. Он сам по понятной причине, — доктор печально вздохнул, — не мог дать согласие на эту процедуру, однако его мать была резко против, она говорила, что это дорого и не имеет смысла, хотя я убеждал ее в обратном. В конце концов я решил сделать пациенту томограмму за собственный счет. Возможно, это было не совсем легально с точки зрения закона, однако я сделал ему укол снотворного (вы сами понимаете, что в таком... тяжелом состоянии он вряд ли смог бы долгое время лежать неподвижно) и провел обследование.
— Аааа! — закричал юноша, — Позор! Позор! Прощайся с жизнью! — он кинулся было к доктору Николаеву, явно намереваясь нанести ему какое-то увечье, но вдруг смирно осел на пол под строгим взглядом профессора Хибары.
— Так вот, — закончил доктор Николаев, волнуясь. — Никаких, совершенно никаких патологических процессов в мозге пациента обнаружено не было. Я не представляю, что это значит, я уже собирался писать об этом загадочном случае в...
— А я вам расскажу, что это значит, — резко произнесла профессор Хибара. — Скажите, вы предупреждали пациента, что ему, возможно, предстоит сдать здесь еще один анализ мочи?
— Да, но причем здесь...
— Молодой человек, — прохрипела доктор Хибара, обращаясь к пациенту, — выверните карманы.
Юноша на полу начал дергаться в странных конвульсиях.
— Молодой человек, — строго повторила профессор Хибара, — мне всё известно.
Юноша долгим взглядом поглядел на нее, потом встал и вытащил из кармана пузырек с какой-то синей жидкостью.
— Медный купорос, — сказала профессор Хибара с удовольствием. — Знаете, юноша, вы чрезвычайно изобретательны. В первый раз вижу такого талантливого симулянта.
— Но... — потрясенно произнес доктор Николаев, — как вы смогли догадаться, что он симулянт?
И действительно, как?
Подсказка
Внимательно изучите симптомы и способы диагностики болезни Вильсона.
Решение
— Прежде всего, — говорила профессор Хибара тем же вечером, сидя в кафе и с удовольствием дожевывая пятый кусок шоколадного торта и запивая его коньяком, — прежде всего, меня насторожил его тремор.
— Тремор? — удивленно переспросил доктор Николаев, отхлебывая второй глоток зеленого чая. — Почему? Ведь тремор — это типичное при болезни Вильсона...
— Да, да, — нетерпеливо взмахнула десертной вилочкой профессор Хибара, — но вы не обратили внимания на одну вещь. Хотя у юноши был тремор рук, ног, головы и даже нижней челюсти, но голос у него был вовсе не дрожащий, а наоборот очень чистый. То есть хотя нервная регуляция мышц конечностей и головы была повреждена, но нейрорегуляция голосовых связок таинственным образом не пострадала. Чисто теоретически такое, конечно, было возможно, но это сразу мне показалось странным.
Кроме того, синяя моча... Я даже боюсь представить, какое количество меди там обнаруживалось. И всё это развилось буквально за месяц. Вас-то самого это не удивило?
— Удивило, но... Я думал, что это феномен...
— А, бросьте! Еще больше я насторожилась, когда оказалось, что он не позволял провести офтальмологическое обследование. Типичное изменение при болезни Вильсона — кольца Кайзера—Флейшера по периферии радужной оболочки. Наш дорогой пациент, видимо, боялся обследования у офтальмолога, потому что никаких колец у него не было. Однако бедный мальчик даже не догадывался, что поначалу эти кольца видны очень слабо и бояться офтальмолога ему нечего.
— Но... анализ крови... как ему удалось добиться... — перебил доктор Николаев.
— Николаев, я вас уволю, честное слово. Конечно, в этом ему помогли девочки-медсестры, с которыми он вступил в близкие отношения в силу своего... эээ... болезненного промискуитета.
— Гм... — покраснел доктор Николаев.
— Ладно, Бог с ним, дело не в этом. Одним словом, я быстро сложила в голове одно, другое и третье и уже готова была услышать, что патологий в мозге у пациента нет. В конце концов, мальчику восемнадцать лет, он, судя по всему, провалился на экзаменах в вуз, а сейчас как раз время осеннего призыва. Ясно, что ему срочно надо было обзавестись какой-нибудь болезнью, которая не позволяла бы ему попасть в армию и в то же время не мешала бы дальнейшему трудоустройству. В изобретательности ему не откажешь. К тому же, он довольно неплохо проштудировал информацию о болезни Вильсона. И если бы он не попал к вам, мой дорогой, то сейчас бы преспокойно получил рекомендации врача и перешел на амбулаторное лечение.
— Я... Мне... — смущенно бормотал доктор Николаев, пряча глаза в чайной чашке.
— Бросьте, Николаев, не принимайте так близко к сердцу. Это ведь не первый ваш прокол. И уверена, что не последний. Думаю, сейчас нам надо вплотную заняться тем, чтобы помочь мальчику. Я навела справки и узнала, что он провалился на сценарный курс ВГИКа. Может, там ему, действительно, и место, но мы можем предложить ему только мединститут. Пожалуй, нам удастся устроить его на первый курс, как вам кажется?
— Что вы имеете... — пролепетал Николаев потрясенно.
— Как что? Если мы напишем, что он здоров, то он сразу же попадет в армию, а такому таланту пропадать нельзя. Дорогой мой, — обратилась она к подходящему к их столу сияющему и очень привлекательному молодому человеку, в котором только с большим трудом можно было узнать псевдопациента, разоблаченного этим утром. — У меня для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться.
Послесловие
Болезнь Вильсона — это яркий пример того, как неправильное обращение с одним-единственным ионом приводит к катастрофическим последствиям для целого организма. Причина этой болезни — накопление ионов двухвалентной меди в результате мутации одного из связанных с метаболизмом меди белков.
В здоровом организме с медью происходит следующее. Ионы меди попадают к нам с пищей и всасываются в энтероциты тонкого кишечника (для их транспортировки через мембрану используется специальный белок по имени SLC31A1). Внутри энтероцитов некоторые из этих ионов хватают белок металлотионеин (который вообще специализирован на том, чтобы ловить проплывающие мимо двухвалентные ионы металлов), другие попадают «в лапы» белку под названием ATOX1, который отправляет их в аппарат Гольджи. Цистерны аппарата Гольджи тоже наполнены множеством белков, один из которых, ATP7A, когда количество ионов меди становится критическим, хватает их и «выплевывает» в капилляр. Оттуда ионы меди попадают в воротную вену и, наконец, в печень.
В печени с ионами меди поначалу происходит примерно то же, что и в кишечнике: SLC31A1 транспортирует их внутрь клеток, часть из них захватывает металлотионеин, другая часть с помощью ATOX1 оказывается в аппарате Гольджи. И вот тут-то начинаются отличия. Дело в том, что в печени нет белка ATP7A, зато есть сходный с ним белок ATP7B, выполняющий сразу две функции. Во-первых, он помогает ионам меди связаться с белком церулоплазмином (которому медь необходима как кофактор для выполнения своих, важных для организма функций). Во-вторых, он транспортирует избыточную медь в желчь, вместе с которой она снова попадает в желудочно-кишечный тракт.
И вот если этот самый белок ATP7B (известный также как «белок болезни Вильсона») испорчен в результате мутации, обе его функции оказываются нарушены. Медь не связывается с церулоплазмином, и из-за этого церулоплазмин не может выполнять свои функции (а именно — окисление двухвалентного железа до трехвалентного). В то же время (и это еще хуже), печень «захлебывается» от избыточного количества ионов меди; клетки печени борются с этими ионами как только могут — связывают их способными к этому белками (тем же металлотионеином) и «выплевывают» в кровоток. Однако это всё равно что вычерпывать лодку наперстком: ионы меди постоянно попадают в организм с пищей, их количество в печени всё увеличивается, и они всё больше и больше повреждают печеночную ткань. Печень воспаляется, поврежденная печеночная ткань заменяется соединительной, и в конце концов начинается цирроз печени.
В то же время, ионы меди, попавшие из печени в кровоток, распространяются по организму и начинают накапливаться в различных органах — прежде всего, тех, которые в норме «работают» с медью и потому имеют на мембранах своих клеток белки, транспортирующие медь внутрь клетки. Главным образом страдают мозг, почки и глаза.
В зависимости от того, какие именно области мозга сильнее всего «наглотались» меди, у пациента с болезнью Вильсона будут проявляться те или иные симптомы нарушения работы нервной системы. Как правило, медь накапливается в базальных ганглиях — подкорковых скоплениях серого вещества. Эти ганглии выполняют множество важных функций, в том числе занимаются регуляцией движений. В зависимости от того, какие именно ганглии, в каких областях и насколько повреждены, у пациента развиваются различные нарушения двигательной активности, в том числе тремор, нарушение координации, потеря чувства равновесия, невнятность речи и многое другое. Кроме того, из-за повреждения тех же базальных ганглиев и других областей мозга (в том числе коры) у больных начинаются и психические проблемы — повышенная импульсивность, промискуитет (неразборчивость в половых связях), нарушение когнитивных функций вплоть до слабоумия, психозы, депрессия и так далее.
Отчаянно борясь с ионами меди, организм в повышенных количествах выделяет их с мочой, и потому один из способов диагностики болезни Вильсона — проверка уровня меди в моче. При этом ионы меди нарушают и работу почек, в результате чего из-за сложных метаболических перестроек с мочой начинает также выделяться избыточное количество ионов кальция, что приводит к ослаблению костей.
Кроме того (как уже говорилось в Решении), характерным признаком болезни Вильсона являются кольца Кайзера–Флейшера — коричневатые отложения меди по периферии радужной оболочки глаз.
Отметим при этом, что общий уровень меди в сыворотке крови при болезни Вильсона понижен. Это кажется совершенно нелогичным, но дело тут в том, что в норме большая часть ионов меди в сыворотке связана с церулоплазмином. Поскольку у больных это связывание нарушено, то общее количество меди у них в сыворотке падает, хотя количество свободной меди гораздо выше нормы.
Как же справиться с болезнью Вильсона?
Главное — сделать так, чтобы меди в организме было поменьше.
Во-первых, ограничить поступление меди с пищей, отказавшись от богатых медью продуктов — печени, шоколада, орехов и так далее.
Во-вторых, подобрать вещества, которые бы связывали медь (они называются хелаторами). Самый распространенный из таких хелаторов — пеницилламин, однако в последнее время, из-за большого количества побочных действий, он уступает место другим препаратам.
Наконец, есть еще третий путь. Ионы цинка очень похожи на ионы меди по размеру и несут такой же заряд. При попадании в желудочно-кишечный тракт цинк начинает конкурировать с медью за белки-переносчики, в результате чего медь всасывается в организм в гораздо меньших количествах. Кроме того, цинк стимулирует металлотионеин, в результате чего медь эффективнее захватывается этим белком и причиняет организму меньше вреда.
При своевременном и правильном лечении болезнь Вильсона практически полностью корректируется, и больные могут вести почти совершенно нормальную жизнь. Пример такого чудесного излечения был продемонстрирован в одной из серий «Доктора Хауса» (который, как вы понимаете, не имеет ни к личности профессора Хибары, ни к этой задаче никакого отношения).
Задачи про профессора Хибару
-
 21.10.2019Профессор Хибара и артистичная натураИлья Кельмансон • Задачи
21.10.2019Профессор Хибара и артистичная натураИлья Кельмансон • Задачи
-
 15.01.2018Профессор Хибара и глупый ухажерСергей Глаголев • Задачи
15.01.2018Профессор Хибара и глупый ухажерСергей Глаголев • Задачи
-
 08.12.2014Профессор Хибара и «кукушкины дети»Вера Башмакова, Сергей Глаголев • Задачи
08.12.2014Профессор Хибара и «кукушкины дети»Вера Башмакова, Сергей Глаголев • Задачи
-
 21.04.2014Профессор Хибара и влюбленный ученикВера Башмакова, Сергей Глаголев • Задачи
21.04.2014Профессор Хибара и влюбленный ученикВера Башмакова, Сергей Глаголев • Задачи
-
 13.05.2013Профессор Хибара и Прекрасное ДитяВера Башмакова • Задачи
13.05.2013Профессор Хибара и Прекрасное ДитяВера Башмакова • Задачи
-
 24.03.2013Профессор Хибара и Трамвайный ХамВера Башмакова • Задачи
24.03.2013Профессор Хибара и Трамвайный ХамВера Башмакова • Задачи
-
 30.12.2012Профессор Хибара и Дед МорозВера Башмакова • Задачи
30.12.2012Профессор Хибара и Дед МорозВера Башмакова • Задачи
-
 04.11.2012Профессор Хибара и медный купоросВера Башмакова • Задачи
04.11.2012Профессор Хибара и медный купоросВера Башмакова • Задачи
Последние задачи