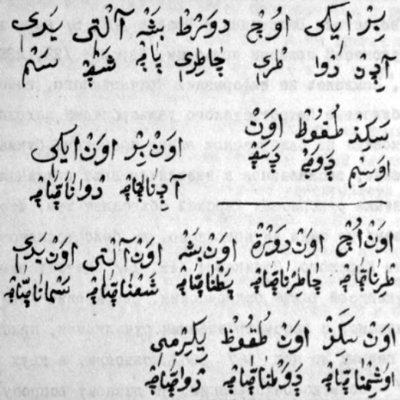Вяленая вобла
Задача
Даны украинские слова и их русские переводы:
| вiльно | вольно |
| вiтчизна | отчизна |
| високий | высокий |
| воля | воля |
| вохра | охра |
| вухо | ухо |
| гора | гора |
| гордий | гордый |
| добрий | добрый |
| задвiрки | задворки |
| заслiнка | заслонка |
| кiгтистий | когтистый |
| кiнцiвка | концовка |
| лико | лыко |
| листiвка | листовка |
| подiбний | подобный |
| просто | просто |
| рiвний | ровный |
Задание 1. Переведите на русский язык: бик, гiрка, кит, кiшка.
Задание 2. Переведите на украинский язык: коржик, невольник, овсяный, хвостатый. Поясните ваше решение.
Примечание. Украинское и читается приблизительно как русское ы, i — приблизительно как русское и.
Подсказка 1
Посмотрите, как в украинском выглядят слова, которые в русском начинаются с гласного, а также слова, которые в русском содержат и и ы.
Подсказка 2
Перед какими звуками и сочетаниями звуков встречается украинское і?
Подсказка 3
Попробуйте просклонять русские слова, украинские эквиваленты которых содержат і. Попробуйте также поискать однокоренные им слова. Есть ли у них какая-то особенность?
Решение
Для начала заметим, что на материале задачи русским словам, начинающимся с гласного (в примерах представлены о и у), всегда соответствуют украинские слова, начинающиеся с в-: укр. вохра, вітчизна и т. д. Обратное неверно: ср. укр. и рус. воля и др., где в обоих языках представлено начальное в-.
Далее отметим, что украинскому и соответствует русское и и русское ы без выводимого правила распределения: ср. укр. лико и рус. лыко, но укр. листівка и рус. листовка; или ср. укр. кігтистий и рус. когтистый, где в русском две разных буквы, а в украинском — одна и та же. Там, где необходимо переводить слова с и с украинского на русский, мы вынуждены делать выбор в зависимости от наличия в русском языке слов с ы или с и.
При этом русскому о соответствует украинское о и украинское і: ср. пару рус. подобный и укр. подібний. Переводя на украинский, мы не можем опираться на знание слов, поэтому нам необходимо найти правило распределения. Распишем примеры в два столбика:
| рус. о в соответствии с укр. о | рус. о в соответствии с укр. і |
| вільно | вільно |
| подібний | подібний |
| високий | вітчизна |
| воля | задвірки |
| вохра | заслінка |
| вухо | кігтистий |
| гора | кінцівка |
| гордий | листівка |
| добрий | рівний |
| лико | |
| просто |
Первое, что бросается в глаза, — что укр. і встречается на материале задачи только перед сочетаниями согласных звуков (на материале задачи мы видим только сочетания из двух согласных). Укр. о при этом встречается как перед одиночными согласными, так и перед сочетаниями согласных.
Попробовав просклонять русские эквиваленты слов из правого столбика и подыскав им однокоренные слова, решатель может заметить, что русскому о соответствует украинское i перед сочетанием «согласный + выпавший беглый гласный» (далее беглый гласный мы будем обозначать решёткой # вслед за американским лингвистом Морисом Халле1), например рус. концовка = кон#цов#ка (ср. форму конец, где на месте решётки представлен е, и род. п. мн. ч. концовок, где на месте решётки о) в соответствии с укр. кінцівка. Аналогично и с другими словами: кігтистий (ср. рус. коготь), вітчизна (ср. рус. отец) и т. д.
Во всех остальных случаях русскому о соответствует украинское о, например рус. гордый без беглых гласных и укр. гордий. Поскольку украинского і из других источников в задаче нет, в обратную сторону і однозначно пересчитывается в рус. о.
Ответ на задание 1
Укр. бик = рус. бык: могло бы быть *бик (астериском лингвисты помечают, среди прочего, и незасвидетельствованные формы), но такого слова нет;
укр. гiрка = рус. горка, то есть гор#ка, сравните род. п. мн. ч. горок;
укр. кит = рус. кит: могло бы быть *кыт, но такого слова нет — и вообще сочетание кы (в словах славянского происхождения) в русском не встречается, если не считать междометий типа кыш;
укр. кiшка = рус. кошка, то есть кош#ка, сравните род. п. мн. ч. кошек.
Ответ на задание 2
Рус. коржик = укр. коржик;
рус. невольник = неволь#ник (ср. «краткую форму» м. р. волен) = укр. невільник;
рус. овсяный = ов#сяный (ср. форму овёс) = укр. вівсяний;
рус. хвостатый = укр. хвостатий.
1 В работах Андрея Анатольевича Зализняка беглый гласный обозначается астериском *.
Послесловие
Первым делом отметим некоторые упрощения в условии задачи: в действительности начальное в- в украинском появлялось не перед любыми гласными, а лишь перед огубленными (лабиализованными) гласными [о] и [у], просто процесс этот происходил до перехода о в і. Иными словами, хронология фонетических изменений была следующая: отчизна > вотчизна > вітчизна. Лингвисты называют добавление дополнительного звука в абсолютном начале слова термином протеза. Протетический в- перед огубленными гласными широко представлен в русских диалектах; в литературный язык попали, среди прочих, слова вотчина (происходит от отец), восемь (от более раннего осмь) и, как будет показано ниже, вобла. В украинском он также хорошо представлен, хотя перед начальным о-, не перешедшим в і-, примеров на протезу довольно мало.
Далее, прокомментируем соответствие украинскому и русских ы и и. В общем предке современных восточнославянских языков — русского, украинского и белорусского, — который в России обычно называется древнерусским языком (а по-английски Old East Slavic), /ы/ и /и/ существовали как две различные фонемы, однако не позже XIII века в говорах, впоследствие легших в основу украинского языка, эти две фонемы начали сливаться в одну. Именно из-за этого изменения мы наблюдаем такие соответствия. Скажем, возьмём украинскую форму прошедшего времени единственного числа женского рода глагола ‘мыть’: она выглядит как ми́ла. В точности так же в литературном украинском выглядит и форма именительного падежа единственного числа женского рода прилагательного ‘милый’. В древнерусском языке эти формы различались разными гласными (и только ими: первый согласный в обоих случаях был фонологически твёрдым).
При этом в современном русском языке мы также наблюдаем сближение фонем /ы/ и /и/, но пошедшее совсем по другому пути: в результате разных фонетических и морфологических процессов — в первую очередь того, что согласные перед /и/ и другими гласными переднего ряда смягчились (стали палатализованными)2, — отношение между [ы] и [и] стало близким к дополнительному распределению: несколько огрубляя можно сказать, что [ы] встречается почти только после твёрдых (непалатализованных) согласных, а [и] — в остальных позициях (после палатализованных согласных и в начале слова). Это дало основание некоторым лингвистам (в первую очередь представителям так называемой Московской фонологической школы) считать [ы] и [и] позиционными вариантами (аллофонами) одной и той же фонемы. Скажем, формы был и бил были всегда противопоставлены друг другу, но если в древнерусском языке они различались разными гласными (из-за чего, собственно говоря, они и записываются таким образом, какими мы их привыкли видеть), то в современном русском литературном языке (согласно одному из возможных теоретических описаний) они противопоставлены только разными согласными — в случае был имеем твёрдую фонему (то есть /бил/), а в случае бил — мягкую (то есть /б’ил/).
Этот эпизод из истории русского языка — пример хорошо известного в науке и широко распространённого в языках мира феномена, когда фонологическое противопоставление между языковыми элементами сохраняется, но при этом меняется носитель этого противопоставления (в нашем случае — с гласных на согласные). Один из крупнейших лингвистов минувшего столетия Роман Осипович Якобсон предлагал называть это рефонологизацией, но больше прижился предложенный французским востоковедом Андре-Жоржем Одрикуром (André-Georges Haudricourt) термин трансфонологизация. Выдающийся американский лингвист Джеймс Мэтисофф выдвинул шутливый, но запоминающийся термин чеширизация — в честь Чеширского Кота, который исчезал «постепенно, начиная с кончика хвоста и кончая улыбкой, которая ещё осталась некоторое время, после того как остальное испарилось»3. Рассмотренное явление также является одним из проявлений «закона Бодуэна де Куртенэ», согласно которому в истории русского языка система согласных усложняется, а система гласных упрощается.
Что же касается украинских соответствий русскому о, тут требуется более развёрнутый комментарий.
Дело в том, что, как уже отмечалось в послесловиях к некоторым задачам на «Элементах» («Три склянки пополудни», «Что осталось на трубе?»), в древнерусском или общевосточнославянском языке до определённого момента было два особых гласных звука, которые лингвисты называют редуцированными. Они обозначались на письме буквами ъ («ер») и ь («ерь»); точное фонетическое значение этих звуков остаётся предметом научных дискуссий. По-английски редуцированные часто именуют по названию соответствующих букв «ерами» — yers или jers.
В результате процесса, который лингвисты называют падением редуцированных (он проходил в основном в XII–XIII веках), часть еров исчезла («слабые редуцированные»), а часть — перешла в другие гласные звуки, причём ер перешёл в о, а ерь в е («сильные редуцированные»). Именно этот процесс и является причиной существования такого явления, как «беглые гласные» типа конец — конца, то есть чередования типа «о/е ~ нуль звука»: в форме конец (которая в раннедревнерусском писалась как коньць и состояла из трёх слогов) гласный во втором слоге был в «сильной позиции» и перешёл в е, а в форме конца (которая в раннедревнерусском выглядела как коньца и также насчитывала три слога) гласный был в «слабой позиции» и потому выпал. Оставим за скобками редчайшие случаи беглых гласных а и у в современном русском4.
Несмотря на то, что украинский лингвист А. А. Потебня и чешский учёный Антонин Гавлик ещё в конце XIX века довольно ясно сформулировали закон распределения еров по слабым и сильным позициям (именуемое правилом Гавлика), оно до сих пор отчасти окружено разными заблуждениями. Так, очень долгое время бытовала идея, что будто бы на падение или прояснение древнерусских редуцированных как-то влияло ударение. Уже более сорока лет назад А. А. Зализняк убедительно показал неверность этого представления5, но до сих пор с ним приходится сталкиваться время от времени.
Судьба редуцированных гласных никак не зависела от ударения. Правило Гавлика в сущности устроено достаточно просто и состоит из двух утверждений: 1) редуцированный в абсолютном конце неодносложного (фонетического) слова — слабый; 2) редуцированный находится в сильной позиции, когда в непосредственно следующем слоге содержится слабый редуцированный. Теперь нам понятно, почему в словоформе коньць один ерь сохранился, а другой пал (и не имеет значения, куда в этой форме падало ударение): подчёркнут редуцированный в слабой позиции, а выделен жирным — в сильной. Аналогично было устроено множество других слов, ср. отьць — отьца, сънъ — съна и т. д. На результаты падения и прояснения редуцированных наложились впоследствие разнообразные морфологические и фонетические явления, но общий принцип, если не углубляться в частные детали, достаточно ясен и изложен выше.
В истории русской письменности в конце концов возобладала орфография, отражающая падение и прояснение редуцированных в середине слова, но конечные еры официально требовалось писать вплоть до реформы орфографии 1918 г., хотя они перестали соответствовать какому-либо отдельному звуку уже к XIV веку (а скорее всего несколько раньше).
В современном украинском литературном языке и в южноукраинских говорах і на месте раннедревнерусского о встречается в так называемых перестроенных или новозакрытых слогах, то есть тех, за гласным которого шёл слог со слабым редуцированным, который позже выпал: например, в слове подібний мы встречаем і, потому что между б и н был ерь в слабой позиции; мы видим это благодаря русской форме подобен < др.-рус. подобьнъ. Примеров на этот переход, ставший яркой особенностью украинской фонетики, можно привести много: скажем, он же представлен в словах кіт ‘кот’ и кінь ‘конь’ (< др.-рус. котъ, конь).
При этом гласный здесь проделал длинную эволюцию: сначала раннедревнерусское о перешло в закрытое /ô/ (противопоставлявшееся открытому /ɔ/), затем в [u], затем в [y] по нотации Международного фонетического алфавита (то есть в звук, соответствующий французскому u и немецкому ü, похожий на гласный в русском слове тюль), и только в XVII веке этот последний гласный перешёл в современное і (мы знаем это в первую очередь благодаря памятникам письменности и межъязыковым заимствованиям разных эпох, а также тем украинским говорам, которые сохранили более архаичное произношение, чем те, что легли в основу украинского литературного языка), поэтому иногда весь этот фонетический процесс называют икавизмом.
Необходимо сделать оговорку, однако, об одном особом типе прояснения редуцированных. В сильной позиции вне зависимости от последующего слога находились редуцированные гласные в сочетаниях типа ТълТ, ТьлТ, ТърТ, ТьрТ, где Т обозначает любой согласный. Именно сюда относятся отличающееся от всех прочих слов из задачи гордый (и коржик из задания 2) — их корни в раннедревнерусском языке выглядели как -гърд- и -кърж- соответственно. В переходе [о] > [ô] > [u] > [y] > [i] не участвовал о, происходящий из ера в сильной позиции (вероятно, он просто ещё не успел стать о к моменту начала перехода), поэтому корни -горд- и -корж- выглядят в современном украинском литературном языке именно так вне зависимости от того, имеется ли в следующем слоге беглый гласный (то есть был ли в следующем слоге слабый редуцированный). По этой причине ‘корж’ по-украински будет корж, а не *кірж (хотя в древнерусском это слово выглядело как кържь, со слабым редуцированным на конце) так что включение слов гордый и коржик в задачу, строго говоря, является не вполне правомерным (хотя и никак не влияет на ход задачи).
Название же задачи связано с тем, что в первоначальном её варианте также фигурировало украинское слово вобла, исключённое из окончательного текста. Дело в том, что название этой рыбы происходит от прилагательного облый ‘круглый, толстый’ («чудище обло» у Тредиаковского и Радищева значит именно это). В древнерусском языке оно имело ерь: обьла (это нам может подсказать редкое, но существующее русское прилагательное вобельный; также можно встретить словосочетание вобелья икра), и поэтому в украинском мы бы ожидали найти форму *вібла. Такой формы мы не встречаем (хотя встречаем прилагательное ві́блий), а существующая в современном украинском литературном языке форма во́бла — заимствование из русского. Тем не менее в диалектах украинского языка есть форма бíбла ‘вобла’ с дистантной ассимиляцией (уподоблением) согласных в...б > б...б, но она не могла быть включена в задачу, чтобы не запутать решателя.
В заключение добавим, что хотя этого и не видно на материале задачи, но украинское і встречается не только на месте о в перестроенных слогах. Оно также происходит, среди прочего (список далеко не исчерпывающий):
- Из и- в абсолютном начале слова: Іван, ім'я и т. д.
- Из е перед слогом с выпавшим ь (но не ъ!): укр. шiсть < раннедревнерусское шесть, укр. осінь < осень, укр. камiнь < камень, но при этом укр. мед < раннедревнерусское медъ, укр. клен < кленъ и т. д.
- Из другого особого древнерусского гласного звука, который обозначался на письме буквой ѣ («ять»). В говорах, лёгших в основу русского литературного языка, ять перешёл в е, а в говорах, лёгших в основу украинского литературного языка, — в і: др.-рус. дѣдъ > укр. дід, рус. дед; др.-рус. рѣзати > укр. різати, рус. резать и т. д.
Литература:
1. А. Е. Аникин. Русский этимологический словарь. Вып. 8: во — вран. М., 2014. С. 20–21.
2. Е. А. Галинская. Историческая грамматика русского языка. Изд. 2-е, испр. М., 2016.
3. Етимологічний словник української мови: у 7 т. Т. 1: А—Г / голов. ред. О. С. Мельничук. Київ: Наукова думка, 1982. С. 189–190.
4. Историческая грамматика русского языка: Энциклопедический словарь / Под ред. В. Б. Крысько. М.: ИЦ «Азбуковник», 2020.
5. Ю. Шевельов. Історична фонологія української мови / Переклад з англійської: Сергій Вакуленко та Андрій Даниленко. Редактор Леонід Ушкалов. Харків: Акта, 2002. (Классика української науки.)
При составлении решения и послесловия также использовался Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера, Словарь русских народных говоров, академический «Словник української мови» в 11 томах и «Словник староукраїнської мови XIV—XV ст.».
Задача использовалась на II туре XXIII Традиционной олимпиады по лингвистике и математике (1993).
Автор задачи — Светлана Бурлак.
Автор послесловия — Нияз Киреев.
2 Этот процесс в русистике принято называть несколько громоздким термином вторичное смягчение полумягких согласных.
3 Льюис Кэролл, «Алиса в стране чудес», перевод В. В. Набокова.
4 Короткий актуальный очерк изучения беглых гласных в современном русском литературном языке см. здесь: Иосад, П. В. 2020. Per aspera ad astra: Нули и звездочки в русской морфонологии // ВАПросы языкознания: Мегасборник наностатей (ред. А. А. Кибрик, Кс. П. Семенова, Д. В. Сичинава, С. Г. Татевосов, А. Ю. Урманчиева). М.: Буки Веди, 69–73.
5 Зализняк А. А. Независимость эволюции редуцированных от ударения в восточнославянском // Структура текста — 81: Тезисы симпозиума. — М., 1981. — С. 28–31.
-
-
Если "козак" - "млодый", то текст, видимо, польский (в восточно-славянских диалектах корень этого слова выглядел бы как молод-, в южнославянских и части западнославянских - как млад-, а млод- - это польский вариант), а в польском в новозакрытом слоге о переходит не в i, как в украинском, а в [u] (пишется ó).
-
Последние задачи