Широкий диапазон
Задача
Как человек воспринимает силу стимула — например, громкость звука или яркость света? В общем виде ответ известен: в нервную систему информация о силе стимула передается с помощью изменений частоты нервных импульсов. Чем больше сила стимула, тем выше частота импульсации нейронов.
При этом верхний и нижний пределы освещенности, которые может воспринимать человеческий глаз (или, точнее, мозг) и при которых мы еще что-то видим, различаются примерно в 10 000 000 000 раз. Частота же нервных импульсов большинства нейронов не превышает 1000 в секунду. За счет каких механизмов нервная система ухитряется воспринимать такой широкий диапазон освещенности?
Подсказка 1
Даже один нейрон сетчатки — достаточно сложное устройство; в восприятии света, передаче сигнала внутрь клетки, а затем — следующим нейронам в нем участвуют десятки (а может быть, и сотни) разных молекул. Но для решения задачи важно также учесть, что рецепторов в глазу много; кроме того, есть клетки, передающие сигнал от рецепторов в мозг и другие структуры глаза.
Подсказка 2
Может быть, кому-то проще будет решать эту задачу, проводя аналогию между глазом и техническими устройствами, воспринимающими свет, — некоторые сходные принципы действительно используются и в глазах, и в человеческих изобретениях.
Решение
Мы воспринимаем свет с помощью специальных клеток — фоторецепторов, расположенных в сетчатке наших глаз. Фоторецепторы содержат светочувствительные пигменты, состоящие из белков-опсинов, связанных с хромофором — ретиналем (ретиналь — это производное витамина A, поэтому недостаток этого витамина приводит, в частности, к нарушениям зрения — особенно сумеречного).
Попадание света на светочувствительный пигмент запускает каскад внутриклеточных реакций, что, в конечном итоге, приводит к передаче сигнала от фоторецептора в зрительные области нашего мозга. Зрительная система имеет высочайшую чувствительность: когда ночью мы глядим на звёзды, на наши фоторецепторы попадает всего по одному фотону в несколько секунд. Такая чувствительность достигается за счёт того, что на нескольких этапах передачи сигнала происходит его умножение (амплификация, см. Передача сигнала). Одна активированная молекула зрительного пигмента включает работу сотен молекул белка — трансдуцина (см. Transducin). Активированный трансдуцин, в свою очередь, связывается с ферментом фосфодиэстеразой, который в результате активируется и модифицирует тысячи других молекул. В итоге попадания даже одного фотона на клетку-фоторецептор оказывается достаточно, чтобы она передала сигнал дальше.
Здесь возникает та самая проблема, которую мы сформулировали в условии задачи. Наша нервная система кодирует интенсивность воздействия частотой импульсации нейронов: чем сигнал сильнее, тем больше нервных импульсов генерирует чувствительный нейрон за единицу времени. Как сказано в условии, максимальная частота нервных импульсов большинства нейронов не превышает 1000 в секунду. Правда, ничего не сказано про минимальную частоту; но понятно, что сильно снизить ее нельзя: если рецептор будет выдавать по импульсу в минуту, мы не сможем следить за быстрыми изменениями освещенности и других параметров изображения. Это значит, что, если частота импульсации светочувствительного нейрона будет линейно увеличиваться с ростом светового потока, мы либо сможем воспринимать лишь очень небольшую часть диапазона освещенности, с которой мы встречаемся при смене дня и ночи, либо мы сможем воспринимать весь диапазон, но потеряем чувствительность к небольшим изменениям яркости. По собственному опыту мы знаем, что это не так: мы можем отличать светлый фон от более темного и солнечным днем, и при слабом свете луны.
Точности ради отметим, что сами фоторецепторы нашего глаза вообще не генерируют нервных импульсов; под действием света постепенно меняется их мембранный потенциал, причем на свету они тормозятся — перестают выделять свой нейромедиатор глутамат. Глутамат возбуждает одни передаточные клетки сетчатки и тормозит другие. Но к решению задачи всё это не имеет отношения — ганглиозные клетки, передающие сигналы из сетчатки в мозг, честно генерируют нервные импульсы.
Наверное, первый вариант ответа, приходящий в голову неспециалисту при решении подобной задачи, — это регуляция количества света, падающего на фоторецепторы сетчатки. За это отвечает зрачок — отверстие в роговице, через которое свет попадает в глаз. Если света на сетчатку попадает недостаточно, мозг посылает сигнал мышцам, растягивающим зрачок: зрачок расширяется, и света на фоторецепторы попадает больше. Если, наоборот, освещение слишком яркое — сокращается круговая мышца, сужающая зрачок. Точно по такому же принципу работает диафрагма фотоаппарата: при ярком освещении фотограф закрывает диафрагму, а при тусклом — открывает.
Способность наших глаз регулировать входящий поток света действительно играет важную роль для функционирования зрения. Но площадь зрачка при его сужении на ярком свету уменьшается всего в 16–20 раз по сравнению с максимальной. Значит, проблему «широкого диапазона» это не решает.
Способность зрачка расширяться постепенно снижается после 25 лет — это одна из причин, по которой с возрастом люди начинают хуже видеть в темноте. Эту информация полезно учитывать при выборе бинокля. Главными характеристиками любого бинокля являются его увеличение и диаметр передней линзы объектива, эти цифры обычно указываются на корпусе. Например, в бинокле 10×40 первое число, 10, означает увеличение (кратность), а второе — диаметр объектива, 40 мм. Если поделить второе число на первое, мы получим 4 мм: это диаметр светового пятна, попадающего на окуляры этого бинокля — так называемого «выходного зрачка». Чем больше этот диаметр, тем больше света попадает в глаза наблюдателю и, соответственно, тем лучше такой бинокль приспособлен для использования в сумерках. Очевидно, увеличить диаметр выходного зрачка можно двумя способами — уменьшив кратность или увеличив диаметр объектива. И то, и другое не очень приятно: уменьшение кратности ограничит дальность, на которой можно проводить наблюдение, а увеличение диаметра объектива увеличивает размер и вес бинокля. Насколько эти компромиссы оправданы, зависит от возраста пользователя. У молодых людей зрачок может расширяться до 8–9 мм, и, если диаметр выходного зрачка бинокля будет меньше этих значений, в сумерках часть света, поступающего в окуляры, будет теряться. К 45 годам максимальный диаметр зрачка снижается до 4–5 мм, и покупать бинокль с большим размером выходного зрачка становится бессмысленно — всё равно на сетчатку дополнительный свет не поступит.
Вторая идея ответа — что зависимость между силой стимула и частотой импульсов на самом деле нелинейная. Пусть, например, при увеличении яркости в 10 раз частота импульсации возрастает в два раза. Тогда при начальной частоте импульсации 1–2 Гц рецептор сможет пропорционально менять частоту импульсов как раз примерно до 1000 Гц при изменении силы стимула на 10 порядков (210 =1024). В некоторых случаях (обычно у беспозвоночных) примерно такой ответ фоторецепторов регистрировали, но в гораздо более узком диапазоне (примерно 3–4 порядка); при этом частота импульсации достигала 30–50 Гц (при начальной частоте в 3–4 Гц) и переставала меняться. У млекопитающих частота импульсации в аксонах зрительного нерва в большинстве случаев вообще не пропорциональна силе стимула (см. послесловие). Значит, на практике этот механизм хотя и используется, но проблему тоже не решает.
Третья идея — наличие рецепторов с разным порогом чувствительности. В значительной степени проблема «широкого диапазона» решается использованием рецепторов с разной чувствительностью для разных интенсивностей сигнала. В нашей сетчатке есть два основных типа фоторецепторов — колбочки и палочки. Три вида колбочек отвечают за цветное зрение. Они сконцентрированы в центре глаза и содержат зрительные пигменты-йодопсины, настроенные на восприятие световых волн разной длины, благодаря чему мы видим мир в цвете. Колбочки имеют относительно высокий порог чувствительности, они срабатывают только при попадании достаточно большого количества света. Ночного освещения для работы колбочек недостаточно, поэтому ночью мы цвета не различаем.
За сумеречное зрение у нас отвечает второй тип фоторецепторов — палочки. Палочек в нашей сетчатке гораздо больше, чем колбочек (около 100 млн против 7 млн колбочек). Все они содержат один пигмент родопсин и, соответственно, не могут использоваться для цветного зрения. Зато их порог чувствительности значительно ниже, чем у колбочек: для срабатывания палочки достаточно попадания одного фотона.
Чувствительность сумеречного зрения увеличивается еще и за счет того, что множество палочек посылает свои сигналы на значительно меньшее количество промежуточных нейронов (биполярных и ганглиозных клеток), в которых эти сигналы суммируются. Таким образом, добавляется следующий уровень амплификации сигнала, хоть и ценой некоторого снижения разрешения.
Поскольку в центре нашей сетчатки палочек нет, совсем слабый свет мы лучше различаем периферийным зрением. Если ночью вы хотите увидеть блеск тусклой звезды, эффективнее смотреть не прямо на нее, а немного в сторону. Днем же палочки не участвуют в восприятии зрительной информации, поскольку света для них слишком много: изменения освещенности уже не вызывают изменения реакции фоторецепторов, так как находятся за пределами диапазона его чувствительности. Днем мы смотрим колбочками*.
Однако выясняется, что и двух разных по чувствительности типов фоторецепторов недостаточно, чтобы решить проблему. Оказывается, важный вклад вносят световая и темновая адаптация отдельных клеток сетчатки. Механизмов такой адаптации глаза известно несколько, основной из них — изменение концентрации ионов Ca2+. Одно из последствий активации зрительных пигментов — закрытие каналов, через которые Ca2+ попадает внутрь клеток-фоторецепторов. Ионные насосы, откачивающие Ca2+ из клетки, продолжают при этом работать, в результате концентрация Ca2+ стремительно падает. Уменьшение количества ионов Ca2+ влияет на каскады реакций между белками, запускаемые активированными пигментами, и приводит к быстрому снижению чувствительности фоторецептора. Как только количество света снижается, концентрация Ca2+ вырастает, и чувствительность фоторецепторов восстанавливается.
Этот процесс называется световой адаптацией: чем ярче освещение, тем менее эффективно клетки реагируют на свет той же яркости. Световая адаптация происходит довольно быстро — нам достаточно нескольких минут, чтобы восстановить нормальное зрение при попадании на свет из темного помещения. Для восстановления максимальной чувствительности (темновой адаптации) фоторецепторов требуется более длительное время — от 10 минут до двух часов, в зависимости от рецептора. Здесь опять уместна аналогия с фотоаппаратом: для того, чтобы фотографировать при разных уровнях освещенности, раньше приходилось использовать пленки с разной чувствительностью, а сейчас — выставлять разные уровни чувствительности (ISO) матрицы.
Существуют и другие механизмы световой адаптации. Например, в палочках сетчатки в темноте родопсин дольше остается в возбужденном состоянии, чем на свету; концентрация белка трансдуцина, с которым взаимодействует родопсин, наибольшая, и поэтому активируется больше его молекул; время жизни каждой активированной молекулы тоже наибольшее, и т. д. (см. детали биохимических механизмов, например, здесь: Adaptation of Rod Photoreceptors to Light and Dark). На свету время жизни активированных молекул сокращается, а часть молекул трансдуцина (и некоторых других белков, участвующих в амплификации сигнала) вообще покидают ту зону в клетке, где расположены зрительные пигменты.
Интересно, что процессы световой и темновой адаптации колбочек и палочек довольно сильно различаются. Например, в колбочках никаких перемещений трансдуцина не происходит. Зато в колбочках короче время жизни активированных пигментов.
Очень упрощенно зависимость чувствительности палочек и колбочек от интенсивности света показывает график на рис. 1. Из этой картинки видно, что сначала быстрее адаптируются к темноте колбочки, и примерно первые 5–7 минут темновая адаптация происходит в основном за счет повышения их чувствительности. Но затем палочки «обгоняют» колбочки, и дальнейшее повышение чувствительности к свету происходит уже исключительно за счет «ночного», «палочкового» зрения.

Здесь детально объясняется, от каких разнообразных факторов зависит ход темновой адаптации.
Роль палочек и их темновой адаптации в сумеречном зрении хорошо иллюстрируют наследственные заболевания, при которых палочки дегенерируют или неправильно функционируют. Люди, страдающие ими, плохо видят в темноте. Например, известна мутация родопсина G90D, при которой палочки на вид нормальные и число их не падает, но работают они всё время так, как будто адаптированы к свету. Видимо, мутантный родопсин без света приобретает такую же конформацию, что и нормальный на свету, и запускает каскад передачи сигнала (см. A. M. Dizhoor et al., 2008. Night Blindness and the Mechanism of Constitutive Signaling of Mutant G90D Rhodopsin).
* Несколько лет назад выяснилось, что при ярком освещении палочки выполняют другие функции, важные для зрения, но не зависящие от родопсина (T. Szikra et al., 2014. Rods in daylight act as relay cells for cone-driven horizontal cell–mediated surround inhibition).
Послесловие
В решении мы рассмотрели три основные механизма, позволяющих нашему зрению функционировать в широком диапазоне освещенности: регуляция интенсивности стимула, поступающего на рецепторы, наличие рецепторов с разным порогом и адаптация рецепторов к уровню сигнала.
Ни один из этих механизмов не уникален для зрительной системы, в других наших сенсорных системах они тоже в той или иной степени работают. Например, диапазон уровней звука, в котором мы слышим, вполне сравним с диапазоном воспринимаемых нами уровней освещенности. В нашей слуховой системе есть аналог сужения зрачка — это регуляция натяжения барабанной перепонки и смещение слуховых косточек, снижающие эффективность передачи звуковой волны во внутреннее ухо и тем самым предотвращающие повреждение слуховых рецепторов слишком громким шумом. Есть в слуховой системе и нейрональная адаптация к уровню громкости: частота импульсации воспринимающих слуховую информацию нейронов быстро падает при предъявлении сигнала с постоянной интенсивностью.
В соматосенсорной системе используются и адаптация механорецепторов, и рецепторы с разным порогом (низкопороговые рецепторы мы используем для восприятия прикосновений или небольших изменений температуры, в то время как укол или ожог вызывают срабатывание высокопороговых рецепторов, вызывающих болевые ощущения). Хеморецепторы, задействованные в нашей обонятельной и вкусовой чувствительности, также обладают способностью к быстрой адаптации — всем нам знакомы ситуации, когда мы «принюхиваемся» к неприятному запаху или перестаем замечать небольшой избыток соли или сахара в пище.
А как обстоит дело с этими механизмами в зрительной системе у других животных? И не используют ли они какие-нибудь еще варианты? Естественно, все три механизма не уникальны для человека. Видимо, в основном те же способы используют все животные, различается только их относительная значимость.
Например, у некоторых животных с щелевидными зрачками диапазон изменений его площади больше, чем у человека (рис. 2) — около 100 раз. Ясно, что этот механизм даже у таких животных — не главный.

Рис. 2. Необычная форма зрачка стенного геккона (Tarentola mauritanica) — щель с несколькими расширениями. Такая форма зрачка позволяет менять освещенность сетчатки примерно на два порядка. Эта ящерица может охотиться и днем, и ночью. Фото с сайта commons.wikimedia.org
Один из чемпионов по изменению площади зрачка — животное как раз с круглым зрачком. Это животное — королевский пингвин. Днем ему приходится нырять за пищей на глубину 200–300 м, где освещенность в несколько сот раз ниже, чем у поверхности, и там охотиться с помощью зрения — ловить рыбу и кальмаров. Крупные — до 13 мм в диаметре — зрачки позволяют обнаруживать на глубине маленьких светящихся анчоусов-миктофид, любимую пищу пингвинов. Один «нырок» занимает около 5 минут, и за 2–3 минуты глазу нужно адаптироваться к темноте. При подъеме к поверхности зрачок пингвина сужается до размеров булавочной головки, приобретая квадратную форму, а площадь его уменьшается примерно в 300 раз; предполагается, что сетчатка благодаря этому не теряет состояния темновой адаптации до следующего погружения.
«Чисто ночных» и «чисто дневных» животных, видимо, почти не бывает. Но животные, активные преимущественно ночью, конечно бывают. Сравнивая их зрение с человеческим, можно понять, какие механизмы адаптации к низкой освещенности наиболее важны. У таких животных обычно много палочек и мало (или совсем нет) колбочек (см. У глубоководных рыб недостаток колбочек компенсируется разнообразием пигментов палочек, «Элементы», 02.07.2019). Чтобы лучше уловить редкие фотоны, они используют особую светоотражающую поверхность за сетчаткой — тапетум. Иногда, по-видимому, у таких животных (раков и насекомых) на свету в глазах более равномерно распределяется темный пигмент, выполняющий роль « солнечных очков». (Похожую роль могла бы играть полупрозрачная мигательная перепонка у птиц; но научных данных о ее использовании для защиты от яркого света найти не удалось. Видимо, она защищает глаз в основном от высыхания и механических повреждений.)
У ночной обезьяны дурукули практически отсутствует центральная ямка (фовеа, см. Fovea centralis), и там, как и в остальной сетчатке, преобладают палочки. (Колбочек у нее мало, и только одного типа — видимо, это редкий пример примата с полной цветовой слепотой). Глаза у дурукули очень крупные, а вот тапетума почему-то нет. Зато каждая ее биполярная клетка собирает сигналы примерно от 200 палочек — против 15–30 у человека (см. F. Ankel-Simons, D. T. Rasmussen, 2008. Diurnality, Nocturnality, and the Evolution of Primate Visual Systems). По-видимому, дурукули жертвуют разрешением в пользу большей чувствительности, и пространственная суммация стимула играет в этом немалую роль.
Теоретически, кроме пространственной суммации в темновой адаптации может играть роль и временная. У человека и других млекопитающих она не обнаружена, а вот у ночных бабочек-бражников, возможно, имеется (см. В темноте бабочки замедляют скорость зрительного восприятия, «Элементы», 27.06.2015).
Хотя это не имеет прямого отношения к задаче, может возникнуть вопрос: почему у человека, явно дневного вида, 95% палочек и только 5% колбочек? Это вовсе не закон — у большинства дневных рыб, амфибий и рептилий преобладают колбочки. Один из ответов — что это «тяжкое наследие мезозойского режима», когда млекопитающим приходилось сосуществовать с хищными динозаврами и либо зарываться под землю, либо вести ночной образ жизни. Согласно гипотезе, выдвинутой в интересной статье Recruitment of Rod Photoreceptors from Short-Wavelength-Sensitive Cones during the Evolution of Nocturnal Vision in Mammals, именно тогда у древних млекопитающих возникла генетическая программа развития, заставившая значительную часть их коротковолновых колбочек превратиться в палочки. (Интересно, что этой программы нет у палочек рыбки данио; возможно, палочки разных позвоночных не вполне гомологичны друг другу). Но после освобождения от ига динозавров многие млекопитающие не только превратились из пигмеев в гигантов, но и вернули себе нормальное дневное зрение. При этом у приматов, которым удалось даже снова «научиться» хорошо различать цвета (см. Обоняние и цветное зрение в эволюции млекопитающих развивались в противофазе, «Элементы», 18.06.2008), палочки почему-то остались преобладающим типов фоторецепторов, и пришлось концентрировать немногочисленные колбочки в центре глаза. А вот у тупай — ближайших родственников приматов — первенство снова захватили колбочки! Ученым еще предстоит разобраться, что при этом происходило с развитием палочек и от чего зависит их число у разных групп.
Но вернемся к человеку. Наука, изучающая зависимость силы наших ощущений от реальной амплитуды действующего на наши органы чувств сигнала, называется психофизикой. Еще в 1834 году один из основателей экспериментальной психологии Эрнст Вебер показал, что наша способность ощущать разницу в интенсивности стимулов зависит от их абсолютной величины. Мы легко чувствуем разницу в весе между грузом в 1 и 2 кг, но отличить 50 от 51 кг мы вряд ли сможем. Сейчас эта зависимость называется законом Вебера и описывается уравнением dS = K*S, где dS обозначает минимально заметную разницу в интенсивности стимулов, S — сила стимула и K — константа.
Закон Вебера неплохо описывает наше зрение, для нас действительно важны не абсолютные, а относительные изменения количества света. На деле это означает, что мы, конечно, не в состоянии различить 1010 уровней освещенности. Однако, как мы уже обсуждали в одной из предыдущих задач (см. Черный снег), проведение точных измерений не входит в круг проблем, решаемых нашими органами чувств. Мы на самом деле не очень хорошо оцениваем абсолютную яркость освещения — например, мы обычно не осознаём, что даже в светлом помещении яркость света значительно (часто в несколько десятков) раз ниже, чем на улице.
Нам необходимо увидеть спелый плод, висящий на дереве, и вовремя заметить хищника, который за этим деревом прячется, независимо от того, происходит ли дело в полдень или после заката солнца — то есть нам важно уметь эффективно отличать объекты от фона. Когда солнце выходит из-за тучи, и саванна, и крадущийся по ней хищник становятся ярче примерно в одинаковое количество раз. Мы не сможем точно определить, во сколько именно, но в этой ситуации у нас есть задачи посерьезнее.
А ведь кроме задачи «отличить объект от фона» у зрительной системы есть и другие — например, определить скорость и направление движения этого объекта, а также распознать его образ. В основном эти задачи решает мозг; но важные этапы обработки информации происходят и на уровне сетчатки глаза. Именно поэтому некоторые ганглиозные клетки срабатывают, например, только при включении света (и перестают выдавать импульсы, даже если интенсивность его растет), а некоторые –только при выключении, и т. п. Пропорциональность между интенсивностью стимула и частотой импульсов нейронов можно обнаружить далеко не всегда...
Дело осложняется еще и тем, что нервная система, по-видимому, кодирует информацию не только с помощью частоты импульсов (см. Neural coding). Например, оказалось, что важную зрительную информацию мозг может получать, сравнивая время от предъявления нового стимула до первого нервного импульса, переданного разными ганглиозными клетками, а не частоту их импульсации. Но это уже другая история...
-
Стивенс пытался опровергнуть Фехнера. Фехнер предположил что едва заметному приросту стимула delta s соответствует прирост ощущения на 1 и вывел логарифмическую зависимость между стимулом и ощущением на основе этого допущения и закона Вебера delta s/s=const. А закон Вебера эмпирический факт, его и не пытались опровергнуть.
-
Я занимаюсь искусственным интеллектом и вопросы поднятые в этой статье очень интересные.
Вот пример того как мои алгоритмы создают музыку.
https://soundcloud.com/dmvkmusic
Моделирование восприятия волновых данных на входе в основном и есть практическая задача нейросетей и современных алгоритмов ИИ для компов.
Ваши текущие знания и понимания этих процессов могут позволить нам построить компьютерную модель простого глаза и уха?
например сделать какую то простую игру на ней...
Второй вопрос...
А как обстоит дело с восприятием более низких частот и большей длиной волны?
Т.е. когда волна цепляет сразу же несколько рецепторов..
и группа рецепторов сама по себе выступает как один детектор волны с большей длиной?
Есть какие то исследования на эту тему?-
волна цепляет сразу же несколько рецепторов..и группа рецепторов сама по себе выступает как один детектор волны с большей длиной?
Колбочки и палочки по любой оси имеют размеры больше длины волны видимого света (верхнюю границу видимого проводят в 0,76 мкм, плюс-минус, диаметр клеток — единицы микрон), так что возбуждения по механизму, характерному для видимого не будет, нагреет слегка (или не слегка, вплоть до выжигания сетчатки, в зависимости от мощности излучения). Если будет выжигать сетчатку, то человек это увидит как ослепительную (буквально) зеленую (такую же, как если случайно глянуть на Солнце, разве что более резкую, и держится часы, а не секунды) вспышку, и больше этим участком он не увидит ничего в жизни. Последнее явление явно вызвано не оптикой, при повреждениях сетчатки механическим воздействием ощущения те же.
Исследования проводились (на основе нагрева сетчатки проводится лазерная коагуляция), например вот:
Исследование особенностей воздействия излучения полупроводникового лазера с длиной волны 0,8 мкм на различные структуры глаза: Отчет о НИР/ ВМедА им. С.М.Кирова. - Л., 1991. - 114 с.
Измайлов А.С. Обоснование лечебного применения в офтальмологии полупроводникового (0,8 мкм) минилазера. Экспериментально-клиническое исследование: Автореферат дисс. ... канд. мед. наук - М., 1993. - 26 с.
0,8 мкм тоже меньше диаметра рецепторов, но напрямую (при низкой интенсивности) уже не виден, при высокой см. выше.
[построить компьютерную модель простого глаза]
Компьютерные модели глаза разные могут быть, и смоделировать, например, ход лучей в оптической системе с разными ИОЛ (подбор искусственного хрусталика) можно в принципе даже вручную — оптическая сила роговицы — расстояние до ИОЛ — сила ИОЛ — расстояние для сетчатки, и учесть (для точности модели) дифракцию на зрачке, все коэффициенты преломления… Обычная геометрическая + волновая оптика.
В основе работы рефрактометров (тех которые у офтальмологов, приборов для измерения степени близорукости/дальнозоркости/астигматизма; а не которые в лабораториях у химиков/экологов) лежат примерно такие модели (я этих алгоритмов не видел, но без них прибор невозможно было бы ни сконструировать, ни использовать — он бы просто не смог ничего определить).
На основе последнего не игры делают, а людей оперируют.
На основе "типовых" кривых светочувствительности построена вся фото-видеотехника (вернее на попытке максимально к ним приблизиться), кроме используемой для спектрального анализа и других сугубо исследовательских целей.
Знания как именно глаз "сжимает" изображения (неточные, но все же) — разве не они позволяют создавать форматы фото/видео "с потерями", которые тем не менее выглядят относительно естественно?
А полная компьютерная модель (от роговицы до деталей обработки в сетчатке) скорее всего на данный момент невозможна, иначе бы уже были способы сжимать видео в разы с полной достоверностью, (обработать точно так, как обрабатывает сетчатка, а потом раскодировать), да и конкретная структура связей в сетчатке скорее всего отличается у разных людей; а если разобраться как все это детально подключено к зрительному центру, то и искусственные глаза, а это такая широкая сфера применения…
Понимаю, что это несколько не то, о чем Вы спрашивали, но основные применения/исследования знаний по биологии человека все же не создание ИИ, игр и т.д., а медицина.-
Спасибо за развернутый ответ.
Конечно речь шла не о видимом спектре. Если я не ошибаюсь, то чтобы захватить сразу несколько рецепторов, мы попадаем в область УКВ (ультра коротких радиоволн)
И суть вопроса в следующем.
Если "светить" в глаз УК радиоволнами, меняется ли восприятие картинки или нет?
Наша природа научилась жестко фильтровать такое или наоборот это помогает для более точного восприятия слабых сигналов?
Я просто фантазирую...но в радиоэлектронике есть такая прикольная штука для обнаружения слабых сигналов: надо усилить фоновый шум чтоб засечь очень слабый сигнал на гране слышимости.
Со звуками это работает отлично. Я провел много экспериментов.
И влияние ультра низких частот на восприятие слышимого спектра явно наблюдается. Я экспериментировал и с профессиональными музыкантами и обычными людьми которые не умеют анализировать и раскладывать в голове частоты.
Ключевым пониманием этих процессов, как и описывалось в вашей задаче, является то, что мы воспринимаем не абсолютное значение сигнала, а разницу.
При увеличении фонового шума, это разница становится ощутима и восприятие той же музыки меняется кардинально.
Те ребята кто профессионально делает мастеринг треков , фактически пользуются именно этой технологией.
Работая много лет с музыкой, я убедился что наш мозг внутри себя прекрасно реализовывает такие технологии как лимитер (limiter), компрессор, шумодав, эквалайзер и работу с ревербирацией (отражениями и анализом объема комнаты)
Так что моя фантазия подсказывает что такие же процессы происходят и в восприятии картинки.
Думаю что скоро смогу провести перекрестный эксперимент со звуками и видео. Влияние звуков на восприятие картинки и наоборот.
Если у вас есть идеи как красиво и просто поставить эксперимент то это будет хорошая помощь.
У меня есть хорошая команда программистов, поэтому мы с удовольствием занимаемся такими задачками для тренировки ума и отдыха от рутинных скучных проектов.
Поэтому я спросил про компьютерную модель и "игрушку".
Любые практические применения начинаются с таких простых моделей и "игры".-
Вроде бы нет, сначала в ИК (микроны). На собственно родопсины/иодопсины влияния быть не должно, кроме нагрева, для возбуждения молекул энергии слишком мало, а чтобы осуществить возбуждение несколькими фотонами одновременно, необходима такая мощность, что о зрении можно будет забыть. Звук сдвигает части тела друг относительно друга, поэтому и может влиять.
Задача не моя, и даже специальность у меня довольно далека от физиологии зрения. Просто с описанными мной медицинскими процессами/приборами/манипуляциями мне доводилось сталкиваться весьма тесно.
-
-
-
Последние задачи

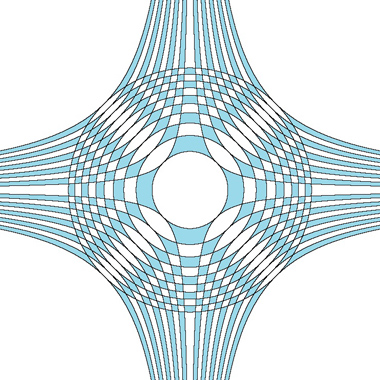




















Рис. 1. Темновая адаптация палочек и колбочек. График с сайта handprint.com