Профессор Хибара и влюбленный ученик
Задача
Ученик и по совместительству бывший пациент профессора Хибары (см. задачу «Профессор Хибара и медный купорос»), доктор Митрофанов, в очередной раз поссорился с профессором навсегда. Много воды утекло с тех пор, как она разоблачила его как симулянта, изображающего болезнь Вильсона. С тех пор доктор Митрофанов зарекомендовал себя талантливым диагностом, редкостным склочником и умопомрачительным дамским угодником. Профессор Хибара не давала ему проходу по всем трем пунктам, и доктор Николаев, преданный помощник профессора, неоднократно писал в своем дневнике, что в очередной раз едва не стал свидетелем убийства.
Итак, кроваво поссорившись с профессором, доктор Митрофанов дал себе слово, что больше ни одного раза не попросит у Хибары совета. Сверкало весеннее утро, в окна било солнце. С гордым видом доктор Митрофанов совершал обход пациентов, видел симптомы, ставил диагнозы, давал рекомендации и чувствовал себя совершенно самодостаточным врачом.
И вдруг он замер. Прямо ему навстречу из палаты вышла тоненькая, хрупкая девушка с лицом мадонны и длинными светлыми волосами. Она долго смотрела на доктора Митрофанова, как будто его не видя, а потом некое подобие понимания появилось у нее на лице. «Я вас помню», — произнесла она и упала в обморок.
Полчаса спустя, приведя девушку в сознание, попытавшись поговорить с ней и отчаянно влюбившись на всю жизнь, доктор Митрофанов готов был поставить диагноз: синдром Корсакова. Девушка страдала от авитаминоза витамина B1 (тиамина) вследствие недоедания, что привело к развитию амнезии, ложной памяти и другим неврологическим нарушениям. Несколько дней приема таблеток тиамина гидрохлорида в дозе 10 мг в день (суточная потребность в витамине В1 — около 1,5 мг) должны были поставить ее на ноги.
Прошло несколько дней. Доктор Митрофанов, сходя с ума от любви, то и дело проверял состояние пациентки — но оно только ухудшалось. Девушка терялась во времени и пространстве, не помнила недавних событий, уклонялась от бесед. Тогда доктор решил ту же дозу витамина вводить внутривенно. Но и это не помогало.
Доктор рвал на себе волосы, советовался и ссорился с коллегами и в конце концов изменил схему лечения, переведя пациентку на другую форму того же витамина — тиаминпирофосфат — в той же дозировке внутривенно. С замиранием сердца он ждал хоть каких-нибудь улучшений, но всё становилось только хуже.
Был весенний вечер, и город был весь будто затянут зеленой дымкой. Доктор Митрофанов, один, засунув руки в карманы, брел, не разбирая дороги, через ямы и канавы на какой-то стройке. Он терял девушку, которую полюбил с первого взгляда (но от которой, правда, не дождался еще и десяти осмысленных слов подряд). Рыча, как раненый зверь, доктор Митрофанов доставал из кармана и снова убирал мобильник. В его душе оскорбленная гордость боролась с любовью. И разумеется, любовь победила.
— Да, — неприветливо взяла трубку профессор Хибара. — Что-то поздно позвонил, голубчик. Я еще позавчера ждала твоего звонка. Наверное, влюбился несильно, не то, что в прошлый раз, да?
Доктор Митрофанов закрыл трубку рукой и произнес всё, что думал о профессоре.
— Что-что? Я не расслышала, — любезно отозвалась Хибара. — Ты не стесняйся в выражениях, говори, как есть.
— Девушка, 20 лет, — сдерживаясь изо всех сил, произнес Митрофанов. — Синдром Корсакова. В правильности диагноза сомнений нет. Однако...
— Знаю-знаю, не трать мое время, — отрезала Хибара. — Я прописываю твоей красавице по 250 мг тиамина гидрохлорида внутримышечно, дней пять. И когда протрезвеешь от любви, советую всё-таки читать медицинскую литературу.
В трубке раздались короткие гудки, и доктор Митрофанов, не сдержавшись, ахнул мобильником прямо во встречный фонарный столб. Но сделал он это с облегчением. Теперь он знал, что девушка спасена.
Чем руководствовался доктор Митрофанов, выбирая схемы лечения, почему они не помогали и почему помогла схема профессора Хибары?
Подсказка 1
Видимо, этот случай в клинической практике (для авитаминоза по тиамину) чрезвычайно редкий.
Подсказка 2
В принципе, та же последовательность действий и тот же результат могут относиться не только к тиамину, но и к любому другому водорастворимому витамину.
Решение
— Мог бы подумать и взять мне что-нибудь, — прошипела Марина, едва подойдя к столику и с отвращением садясь на поспешно отодвинутый для нее стул. Доктор Митрофанов смиренно поднял очи горе.
В эту секунду невесть откуда появившаяся официантка как раз поставила перед девушкой чашку кофе и тарелочку с пирожным.
— Мог бы заметить, что я ненавижу лимонный чизкейк. Как можно так относиться к людям! — Марина просто задыхалась от ненависти. — Ты сказал, что мне надо прийти на контрольный осмотр к этой твоей Хибаре, а на самом деле просто хотел надо мной поиздеваться! –она вонзила в чизкейк десертную вилочку так, как будто это было не пирожное, а сердце доктора Митрофанова, вскочила, взметнула волосами и не обернувшись выскочила во вращающуюся дверь. Только очень внимательный взгляд увидел бы в этой белобрысой фурии ту белокурую мадонну, которую доктор Митрофанов при помощи профессора Хибары вылечил полгода назад.
— «Включаю пленку задним ходом // И все стараюсь рассмотреть // Момент, где мерзкая скотина // Назад становится тобой», — задумчиво процитировала Хибара, глядя девушке вслед. — Некоторых пациентов лучше было и не лечить, да? — спросила она, глядя на доктора Митрофанова своим пронизывающим взглядом. Тот мрачно сжал губы и опустил глаза в стол. — Вот-вот, дружочек, не проходит и дня, чтобы я не подумала то же самое о тебе. Почему я не отправила тебя в больницу до скончания века, симулянт несчастный? Или в армию? Почему? Не понимаю.
Доктор Митрофанов молчал. Он знал, что и гнев, и сарказм профессора лучше пережидать — если только хочешь получить у нее ответ на свой вопрос.
— Я, в общем, так и думала, что контрольный осмотр не понадобится, просто хотелось посмотреть на тебя в униженном состоянии, — пояснила профессор. — Ну что, ты ведь понял, в чем было дело и откуда у этой милой крошки взялся синдром Корсакова? Нет-нет, со стервозностью это никак не связано. Хотя... — профессор задумчиво подперла щеку здоровой рукой, — может, и мне стоит пойти провериться? Ладно! Я понимаю, мой дорогой, что в институте ты был двоечником, а по жизни — неудачником. Но всё же некоторые вещи стоит знать. Что такое витамины? — спросила она голосом экзаменатора.
— Ну, витамины — это, как правило, коферменты. Они соединяются с белками-апоферментами, и вместе апофермент и кофермент дают полноценный рабочий фермент. Если кофермента-витамина не хватает, то у человека начинается авитаминоз — дефицит рабочего фермента, потому что от апофермента самого по себе нет никакого толку.
— Ну хоть это ты знаешь, и то хлеб. И диагноз поставил верно, я просто поразилась. Может, думаю, тебе кто-нибудь помог? Ладно! Теперь рассказывай, что ты делал и почему.
— Вначале, — солнечно улыбнувшись на сомнительную похвалу профессора, произнес Митрофанов, — я, разумеется просто прописал Марине гидрохлорид тиамина. Всякая нормальная пациентка выздоровела бы через несколько дней такой терапии. Но тут результата не было, и я решил, что у нее нарушено всасывание витамина в пищеварительной системе.
— Ты уже тогда понял, что она особенная, да?
— Поэтому, — проигнорировав реплику профессора, продолжил Митрофанов, — я назначил ей внутривенные инъекции препарата, чтобы тиамин попадал сразу в кровь, минуя пищеварительную систему. Но это тоже не помогло.
— Девушки бывают сложносочиненные и сложноподчиненные.
— Какое это имеет отношение к медицине? Ну вот. Я подумал, что дело не в усвояемости витамина, а в чем-то другом. Как известно, тиамин, попадая в организм, должен претерпеть несколько превращений, чтобы стать рабочим коферментом. Я предположил, что у Марины эти превращения по какой-то причине не происходят, и решил дать ей уже готовую к работе форму тиамина, готовый кофермент — тиаминпирофосфат. Но это тоже не помогло, я опустил руки...
— Лучше бы ты опустил голову в медицинские журналы, — ядовито произнесла профессор. — Вот, смотри.
Неуклюже орудуя протезом, она выудила из сумки мобильник и открыла на нем статью.
— Тут, конечно, речь о ребенке, но к твоей зазнобе это тоже, видимо, относится.
Доктор Митрофанов, быстро просмотрел статью и поднял глаза на профессора:
— У нее была проблема в связывании между апоферментом и коферментом?
Профессор молча кивнула.
— Понятно! То есть такие небольшие порции тиамина, который я ей давал, были просто как капля в море, они не могли дать начало достаточному количеству комплексов апофермента с коферментом. Ну что ж, я понял, почему ей нужен был тиамин в таких гигантских количествах, и теперь...
Тут у доктора Митрофанова зазвонил телефон.
— Пупсик, — проворковал в трубке голос. — Ты, конечно, виноват, но я подумала, что смогу простить тебя. Ты всё еще в кафе? И эта противная Хибара с тобой? Я скоро вернусь, не уходите.
— Девушка, — злорадно подозвала официантку профессор, которая не пропустила ни слова из этого разговора. — Не могли бы вы принести для нашей очаровательной подруги, которая вот-вот сюда вернется, еще один лимонный чизкейк, а то этот немного испорчен?
Послесловие
У такой душещипательной и в то же время поучительной истории просто не может не быть морали. И моралей тут даже несколько. Но сначала давайте еще раз проследим логику действий врачей.
Тиамин (как и многие другие витамины) — кофермент сразу нескольких важных ферментов, в данном случае — участников энергетического обмена, связанного с усвоением углеводов. Вот почему при авитаминозах часто страдают сразу многие ткани и органы: от нехватки одного витамина нарушаются разные реакции обмена веществ.
Чтобы подействовать, витамин должен попасть в клетки. Для этого он должен сначала всосаться в кишечнике и попасть в кровь. Для тиамина (и, видимо, других витаминов) есть два пути всасывания — через белок-переносчик и просто сквозь мембрану, путем пассивной диффузии. Эффективность второго варианта транспорта прямо зависит от концентрации витамина, и он оказывается эффективным только при высоких дозах. (Возможно, нашей больной витамин в дозе 250 мг ежесуточно помог бы и при пероральном введении...)
Многие витамины — это не готовые коферменты, а только их предшественники. Для превращения в активный кофермент с витамином часто должны «поработать» несколько ферментов, и бывает, что один из них плохо справляется с работой. При высокой дозе витамина «полуиспорченный» фермент-преобразователь может работать лучше; но еще лучше будет помогать при авитаминозе готовая форма кофермента.
Наконец, иногда (не так уж редко) встречаются наследственные формы нарушения тех ферментов, которым «помогает» витамин. Проблемы могут возникать уже у гетерозигот: носитель одного «плохого» и одного нормального варианта гена. При половинном количестве работающего фермента его активности не хватает для нормального обмена. В этих случаях особенно важно, чтобы каждая молекула фермента имела активного помощника и в любой момент времени действовала. А для этого нужны «лошадиные» дозы витаминов. Конечно, они могут давать побочные эффекты (см. ниже), но в случае водорастворимых витаминов, легко выводимых из организма с мочой, они обычно не слишком опасны.
Многими работами было доказано, что сверхвысокие дозы витамина С (см. Vitamin_C_megadosage), за употребление которых в свое время так ратовал нобелевский лауреат Лайнус Полинг, не улучшают умственные способности и сопротивляемость инфекциям. Но, может быть, не улучшают в среднем? А вдруг есть такие люди, для которых сверхвысокие дозы этого витамина всё-таки полезны? Кажется, эта проблема подробно еще не исследована...
А теперь — обещанные «морали».
Первая мораль состоит, конечно, в том, что врачам действительно не вредно было бы почаще читать научную литературу. Статья, которую показывала ученику профессор Хибара, скорее всего касалась случаев наследственной недостаточности функций одного из ферментов обмена углеводов. Это мог быть фермент пируваткарбоксилаза (см., например, статью Baal et al., 1981. A patient with pyruvate carboxylase deficiency in the liver: treatment with aspartic acid and thiamine) или, с большей вероятностью, пируватдегидрогеназа (см., например, здесь). Обычно симптомы таких болезней проявляются в раннем детстве. Иногда — в очень редких случаях — «корсакоподобный» сидром может развиваться и позднее. Именно поэтому наш случай может считаться крайне редким — у девушки явно не было данных о подобном заболевании в анамнезе. Это может происходить при менее вредных мутациях, скажем из-за стресса или неправильного питания (уж не из-за анорексии ли попала наша девушка в больницу?).
Но гораздо важнее в этой первой морали другое: оказывается, даже при «истинном» синдроме Корсакова (он чаще возникает у хронических алкоголиков, но встречается и у непьющих людей), который может угрожать жизни больного, многие врачи пренебрегают большими дозами тиамина или дают его только в виде таблеток (см.: R. Agabio, 2004. Thiamine administration in alcohol-dependent patients). Врачи опасаются побочных реакций при внутривенном введении (иногда большие дозы тиамина вызывают анафилактический шок), хотя эти побочные реакции возникают в 10–100 раз реже, чем, например, при инъекциях пенициллина. На деле же всасывание тиамина в кишечнике у алкоголиков с синдромом Корсакова может быть почти полностью нарушено, и применение таблеток, да еще в низкой дозировке, не дает никакого эффекта.
Вторая же мораль не менее очевидна и не менее важна: каждый больной (а не только девушка, в которую можно влюбиться) для врача уникален. Особенности его организма могут оказаться решающими для успешности лечения — и не в последнюю очередь особенности генетические. Современная медицина всё еще нередко действует «наощупь», не учитывая данных о генотипе больного. Но движение к персонализированной медицине (см. Personalized_medicine) сейчас происходит семимильными шагами. Сын доктора Митрофанова, если он выберет профессию врача и станет грамотным специалистом, в подобном случае уже не станет обращаться к профессору Хибаре за советом: он просто найдет нужные данные на диске, где будет записан геном пациента, расшифрованный при рождении. А вот найдет ли место в этом дивном новом мире профессор Хибара — мы скоро узнаем. Почему-то кажется, что без работы она всё равно не останется...
Эта задача составлена на основе истории, приведенной в книге «Ферменты в клетке и пробирке» (Н. Н. Чернов, 1996), и с использованием вопроса для заочной олимпиады факультета биоинформатики и биоинженерии МГУ, составленного Д. А. Кнорре.
Задачи про профессора Хибару
-
 21.10.2019Профессор Хибара и артистичная натураИлья Кельмансон • Задачи
21.10.2019Профессор Хибара и артистичная натураИлья Кельмансон • Задачи
-
 15.01.2018Профессор Хибара и глупый ухажерСергей Глаголев • Задачи
15.01.2018Профессор Хибара и глупый ухажерСергей Глаголев • Задачи
-
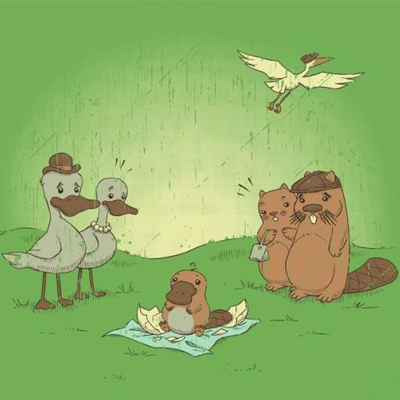 08.12.2014Профессор Хибара и «кукушкины дети»Вера Башмакова, Сергей Глаголев • Задачи
08.12.2014Профессор Хибара и «кукушкины дети»Вера Башмакова, Сергей Глаголев • Задачи
-
 21.04.2014Профессор Хибара и влюбленный ученикВера Башмакова, Сергей Глаголев • Задачи
21.04.2014Профессор Хибара и влюбленный ученикВера Башмакова, Сергей Глаголев • Задачи
-
 13.05.2013Профессор Хибара и Прекрасное ДитяВера Башмакова • Задачи
13.05.2013Профессор Хибара и Прекрасное ДитяВера Башмакова • Задачи
-
 24.03.2013Профессор Хибара и Трамвайный ХамВера Башмакова • Задачи
24.03.2013Профессор Хибара и Трамвайный ХамВера Башмакова • Задачи
-
 30.12.2012Профессор Хибара и Дед МорозВера Башмакова • Задачи
30.12.2012Профессор Хибара и Дед МорозВера Башмакова • Задачи
-
 04.11.2012Профессор Хибара и медный купоросВера Башмакова • Задачи
04.11.2012Профессор Хибара и медный купоросВера Башмакова • Задачи
Последние задачи












