Слава интермедиатам!
Роалд Хофман,
лауреат Нобелевской премии по химии за 1981 год
«Химия и жизнь» №8, 2012
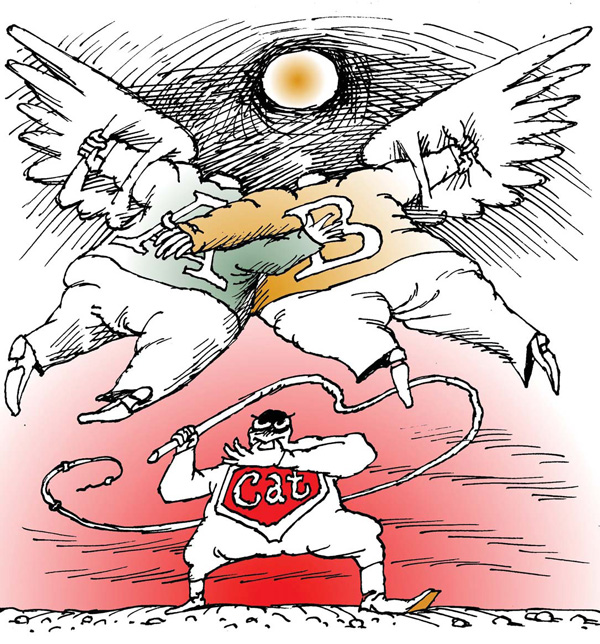
В предстоящей кампании по выбору президента США наверняка кого-нибудь из политиков назовут «катализатором перемен» — и это будет позитивная характеристика кандидата. Наша психика устроена таким образом, что надежда на перемены к лучшему в ней живет вечно, поэтому мы не устаем от этой фразы. «Катализ» — одно из немногих химических понятий, которое вошло в разговорный язык. Он захватывает наше воображение как символ перемен и трансформации. Но в равной степени заслуживают нашего внимания и промежуточные продукты, которые получаются в каталитической реакции. Их называют интермедиатами.
Как заставить ее идти
Предположим, что А и В — это молекулы, которые в соответствии со строгими требованиями термодинамики должны самопроизвольно реагировать и давать продукт, который мы назовем Р (P может быть и не одной, а несколькими молекулами). Под выражением «должны реагировать» я подразумеваю, что энергия Гиббса — это чудесное сочетание энтальпии и энтропии — уменьшается, как только А и B превращаются в Р. Другими словами, в реакции высвобождается энергия, поэтому она должна протекать самопроизвольно.
Однако часто реакция не идет, даже если мы добавим в систему умеренное количество энергии, например, подогреем реагирующие вещества. Причина этого — возможный выигрыш (энергия Гиббса, которая должна высвободиться в процессе реакции) просто не доступен, и молекулы мягко сталкиваются в тепловом равновесии, не реагируя между собой. Дело в том, что каждая реакция имеет энергию активации — это «холм», до верхушки которого должна подняться энергия, перед тем как она высвободится в реакции и станет доступной (рис. 1, верхний график). При комнатной температуре и обычном давлении только бесконечно малое число молекул при столкновениях друг с другом приобретает достаточную энергию, чтобы преодолеть этот холм активации.

Именно здесь нужен катализатор. С его участием происходит некая последовательность реакций, которую химики называют механизмом реакции.
A + Cat → Cat A
Cat A + B → P + Cat
Cat — обозначение катализатора, а Cat A — это промежуточный продукт реакции, или интермедиат. Энергетический профиль, который сопровождает эту последовательность из двух реакций (рис. 1, нижний график), совершенно иной, чем в отсутствие катализатора. Барьер, который надо преодолеть, чтобы началась каждая из реакций, существенно ниже, а это означает, что катализатор подобран хороший. Возможно, теперь будет достаточно комнатной температуры или совсем небольшого нагревания, чтобы «уговорить» реагирующие молекулы перебраться через два маленьких холма и преодолеть энергию активации. Реакция идет легко.
Катализатор сам участвует в реакции, но потом восстанавливается (химики говорят — регенерирует). Он исчезает, чтобы появиться. Воскресший катализатор снова готов провести новую пару молекул (А и B) через реакцию. Казалось бы, он может делать это бесконечно, но ни один катализатор не работает так хорошо — это идеальная схема. В растворе его все «отвлекает» от начертанного пути: он может реагировать с другими молекулами, закислиться, «отравиться». Число оборотов, или рабочих циклов — то есть число реагирующих молекул, проведенных через реакцию одной молекулой катализатора, — служит показателем его эффективности. Например, 105 — очень хороший показатель, возможно уже достаточный, чтобы строить завод для реализации технологического процесса с его участием. При этом, чем больше циклов, тем дороже может быть сам катализатор.
У монеты две стороны
Однако катализатор — не единственный участник процесса. У него есть партнеры по реакции, которые часто бывают невидимыми — в нашем примере это интермедиат Cat А. На самом деле «партнер» — неточное слово, поскольку один не может существовать без другого. Только катализатор исчезает, а потом восстанавливается, в то время как интермедиат — в точности наоборот: появляется в процессе и потом исчезает, чтобы снова появиться в следующем цикле. Эти «отношения» катализатора и промежуточного продукта — отличительная черта всех каталитических циклов, от самого простого, который мы описали, до сложнейших реальных реакций. При этом в самих мимолетных преобразованиях нет ничего таинственного, никаких дистанционных взаимодействий — только обычная старая добрая химия. Например, очень полезная и важная реакция, в процессе которой образуется углерод-углеродная связь в сложной органической молекуле (рис. 2). Именно такого типа взаимодействие часто бывает нужно для синтеза биологически активных соединений. (Она известна как реакция Стилле, в честь ее первооткрывателя Джона Стилле.) В ней молекула 1 — это катализатор (палладий в нулевой степени окисления Pd0 с лигандами L), молекула 2 — реагент RX (R — органическая группа СН3 или С6Н5, а X — атом галогена). Реагент добавляют к катализатору, Pd отдает два электрона для образования связей с R и X. Так получается соединение 3 — первый интермедиат из двух в этом цикле реакций.

Интермедиат, в свою очередь, реагирует с соединением 4 (оно состоит из олова Sn, трех бутильных групп Bu и еще одной органической группы R'), после чего получается два продукта. Один из них (под номером 5) побочный, а другой, под номером 6, имеет два заместителя R и R', прикрепленные к палладию, которые и соединит в результате новая углерод-углеродная связь (7). Это, собственно, и есть цель реакции. Кстати, подобные реакции получили в 2010 году Нобелевскую премию по химии. (Ее получили Ричард Хек, Эйити Нэгиси и Акира Судзуки. — Примеч. ред.)
Реакция Стилле — пример гомогенного катализа, поскольку все реакции протекают в растворе. Такой же процесс спаривания с катализатором и образования интермедиата происходит и при гетерогенном катализе, когда реакция проходит на металлических частицах или реакционных центрах, привязанных к твердым частицам. Наверное, самый важный каталитический промышленный процесс в мире — тот, при котором на поверхности металлических частиц разрываются молекулы водорода и азота (H2 и N2) и получается полезный аммиак NH3 (рис. 3). Эта реакция связывания водорода и атмосферного азота называется процессом Габера—Боша. Половина многочисленных атомов азота в нашем организме видела изнутри заводы, на которых работают подобные технологические линии, и посещала мелкие частицы металла, катализирующие эту невероятно успешную реакцию.

Интермедиатов полно и в нашем организме. Они образуются в многочисленных и очень эффективных биохимических реакциях, созданных эволюцией. Катализаторами работают ферменты, которые облегчают, например, отщепление аминокислот от съеденных нами белков. На каждой стадии активная сторона фермента связывает субстрат и временно образует интермедиат.
Невидимки
Одна из причин, по которым на интермедиаты не обращают пристального внимания, состоит в том, что они интермедиаты. Они легко разлагаются и не присутствуют в больших концентрациях. Они мимолетны. Нужно быть быстрым и ловким, чтобы мельком увидеть их, при этом ваш метод должен быть исключительно чувствительным. И чем лучше катализатор, тем меньше шансов у вас его поймать. Наоборот, если у вас есть долгоживущий интермедиат, то вряд ли вы работаете с хорошим катализатором.
Хватит рассуждений, нужен пример обнаружения интермедиатов. Не могу удержаться, чтобы не привести грандиозный пример: как хлорфторуглероды вызывают озоновые дыры. Процесс начинается с того, что инертные и безвредные хлорфторуглероды разлагаются в стратосфере под действием света, причем получается целый спектр хлорсодержащих соединений: Cl2, HOCl, ClNO2. Эти вещества адсорбируются на кристаллах льда в полярных облаках, а затем распадаются под весенними солнечными лучами, легко высвобождая атомы хлора. Последние инициируют целый ряд каталитических цепей, в которых разлагается озон. Простейший возможный механизм этого разложения впервые предложили в 1970 году:
Cl + O3 → ClO + O2
ClO + O → O2 + Cl
Общая реакция выглядит так: О3 + О → 2О2. Но все непросто в этом мире (за исключением моментов, когда мы слушаем политическую рекламу), непрост и этот механизм. Последовательность указанных выше реакций требует атомов кислорода, которых, как выяснилось, не хватает в стратосфере Антарктики. Реальный ход событий сложнее и включает четыре основных реакции:
2Cl + 2O3 → 2ClO + 2O2
2ClO → ClOOCl
ClOOCl + hν → Cl + OOCl
OOCl → O2 + Cl
Суммарная реакция: 2О3 → 3О2 (hν — это квант солнечного света).
В обоих механизмах атомы Cl — катализаторы, а ClO — интермедиат. Как и в реакции Стилле, второй механизм имеет несколько промежуточных продуктов, и к ним в том числе относятся ClOOCl и OOCl.
Интермедиат ClO очень активен, его невозможно снять с полки в баночке. В 1980-х годах было создано специальное спектроскопическое оборудование для обнаружения малых количеств ClO в полярной атмосфере. В 1987 году его поместили на борт самолета, который из Пунта-Аренас на юге Чили полетел на большой высоте к Южному полюсу, в озоновую дыру. Самолет был оснащен также зондом для озона. Экспериментальный график (рис. 4) показал со всей очевидностью, что концентрация озона падает именно там, где концентрация ClO растет. Единицы измерения ClO (частей на триллион объема) позволяют оценить уровень сложности эксперимента.

Охарактеризовать интермедиат очень трудно, я думаю, это гораздо тяжелее, чем найти катализатор. Когда я, как химик-теоретик, просматриваю химическую литературу, то вижу следующее: механизмы реакций, где невозможно обнаружить интермедиаты, легко записать, но чертовски трудно определить точно. Вообще для определения механизма нужна большая экспериментальная изобретательность в оценке данных скоростей реакций, анализе изотопных эффектов и прямом обнаружении промежуточных продуктов. Это верно и для некаталитических процессов. Отмечу, что лишь единичные реакции протекают одним махом, а абсолютное большинство их проходит через сложные последовательности с изобилием короткоживущих интермедиатов.
Как написал Льюис Кэрролл в своей поэме «Охота на Снарка»:
И со свечкой искали они, и с умом,
С упованьем и крепкой дубиной,
Понижением акций грозили притом
И пленяли улыбкой невинной.
Открыть новую реакцию или найти катализатор гораздо легче, чем разобраться с ее механизмом. Часто мы выбираем легкий путь.
Мифы и деньги
На самом деле катализаторы больше притягивают наше воображение не из-за нашей лени. Я вижу несколько причин, по которым они интереснее, чем промежуточные продукты реакции.
Волшебство. В работе катализатора есть что-то особенное, даже мифологическое. Часто они содержат драгоценные металлы, и при этом сначала исчезают, а потом возвращаются. Вспомните о возрождении феникса из пепла, о пребывании Персефоны в Аду и ее возвращениях, реинкарнации и воскресении. Чтобы перейти от алхимической концепции катализа в XIX веке к тем механизмам, которые мы знаем сегодня, понадобилось некоторое время. Тем не менее какое-то благоговение остается. Катализатор — волшебная субстанция и не теряет своей магии, даже если мы знаем, как она работает. Как с этим может конкурировать обычный промежуточный продукт? Он не воскресает, а просто исчезает. Обнаружение интермедиата, каким бы гениальным оно ни было, дает в лучшем случае чувство удовлетворения от распутанной детективной истории.
Прибыль. Чудо-катализатор (как и алхимия в предыдущие века) обещает богатство. Если с его помощью удастся заставить идти еще не покоренные реакции (те, которые обеспечивают производство рыночных продуктов) или если новый способ синтеза будет более эффективным, чем существующий, то катализатор очень ценен. Вот почему эти соединения защищают патентами, как важную интеллектуальную собственность. Правда, у меня есть ощущение, что не каждый важный катализатор запатентован. В случае специальных реакций зачастую бывает проще сохранять непатентованную коммерческую тайну, пусть даже и с риском, что ее украдут или конкурент обнаружит катализатор самостоятельно и запатентует. Поиск интермедиата откладывают на потом, после того как запатентуют найденный катализатор. На самом деле при желании можно было бы запатентовать и сам промежуточный продукт.
Служение человечеству. Тот факт, что половина атомов азота в нашем организме видела изнутри завод, на котором реализуется технология Габера—Боша, не только свидетельствует о том, что участвующие в этом компании получают прибыль. Это также доказывает, что сегодня живет в два раза больше людей, чем могло бы, если бы не было таких заводов по производству аммиака и удобрений из них. Катализ кормит мир.
Мы обычно думаем о катализаторах хорошо, поскольку они дают нам важные и нужные вещества (удобрения и прочие). Но природа не заботится о наших ценностях. В природных и искусственных процессах катализаторы ускоряют и нежелательные реакции (разложение озона, порча мяса).
Привилегированность интермедиатов
Интеллектуальной бонус от поимки промежуточного продукта — он сразу же дает вам точный механизм реакции. Если же вы нашли только катализатор, то он не дает механизма. Он только стимулирует вас придумывать альтернативные пути, по которым катализатор мог бы связываться с реагентом.
В последнее время найдены новые способы поиска катализаторов — оказалось, что это можно сделать, отталкиваясь от промежуточных продуктов. Один из подходов — разработка нового дизайна ферментов: выберите реакцию, которую вы хотите запустить, слепите активный центр (он вместе с субстратом будет образовывать интермедиат) и добавьте необходимые белки. Другой подход — направленная эволюция. В этом случае синтезируют библиотеку потенциальных катализаторов (не только ферментов) и тестируют их на способность ускорять реакцию. Оценить их активность можно по скорости исчезновения интермедиатов, а это способна обеспечить масс-спектрометрия. В несколько итераций отбирают наиболее эффективные. Каждый из новых подходов (а их много, поскольку катализ активно развивается) заслуживает внимания. Позволю себе привести два более старых примера.
Интермедиат найден первым. Трудно повернуть время вспять в такой динамичной области, как молекулярная биология. Но в середине 1950-х годов рибосомы только начинали исследовать, а детали синтеза белка были неизвестны. В ключевом эксперименте биохимики Махлон Хогленд и Пол Заменик обнаружили промежуточные продукты реакции, участвующие в синтезе белков, — аминоацил-аденилаты, которые получаются при активации аминокислот в реакции с аденозинтрифосфатом (АТФ). Не прошло и года после открытия, как многочисленные исследовательские группы начали описывать ферменты (то есть катализаторы), участвующие в этой реакции.
Те же ферменты оказались катализатором второй реакции — присоединения активированной аминокислоты к транспортной РНК (тРНК). Последняя перемещает аминокислотные остатки к рибосоме, где они присоединяются к растущей цепи аминокислот при синтезе белка. Фермент, о котором идет речь, сейчас хорошо известен как аминоацил-т-РНК синтетаза. Его обнаружили, поскольку соответствующие интермедиаты активации аминокислот нашли первыми. Между тем интермедиат аминоацил-аденилат настолько неустойчив и так легко присоединяется к тРНК, что его трудно выделить в присутствии последней.
Интермедиат, который стал катализатором. Как и все реальные истории, открытие Карлом Циглером катализатора полимеризации этилена прошло не очень гладко. Циглер и его коллеги изучали реакцию алюмогидрида лития (LiAlH4) с этиленом. Из этилена в процессе реакции получается более длинная цепь углеводородов (от четырех до 12 атомов). От LiAlH4 реагент перемещается к гидриду алюминия (AlH3), который также катализирует реакцию. Но потом Циглер обнаружил, что промежуточный продукт, триэтилалюминий Al(CH2CH3)3, даже лучше катализирует полимеризацию этилена. По-прежнему для проведения реакции было нужно давление, поэтому ситуацию исправили с помощью хлорида титана (TiCl4). Сегодня детали этой реакции по-прежнему остаются тайной, но мир без полиэтилена представить трудно.
Вернемся к метафоре и использованию химических терминов для обозначения социальных изменений. Я бы сказал, что реальные изменения — это не результат действия одного каталитического вещества или яркого политического лидера. Изменения (отношение всего народа к сохранению электроэнергии, отказ от расовых или гендерных стереотипов и многие другие перемены) будут происходить через действия множества отдельных мелких лиц. В каком-то смысле их всех можно назвать интермедиатами.
Может быть, я слишком преувеличил роль и значение интермедиатов. На самом деле реалии таковы: поиск катализаторов дает нам возможность синтезировать нужные вещества (и потенциально получить прибыль), а поиск интермедиатов дает нам механизм. Но мне как теоретику важнее понимать, чем действовать.
Интермедиат Криге
А. А. Вакулка,
Институт Йозефа Стефана, СловенияВ последнее время весь мир бурно обсуждает открытие бозона Хиггса, существование которого необходимо для Стандартной модели. Между тем в январе 2012 года журнал “Science” опубликовал статью, посвященную еще одной чрезвычайно интересной нестабильной частице, уже не элементарной, — интермедиату Криге. И с ней также связаны сенсации. Например, после этой публикации интернет-издания начали писать, что Землю ждет глобальное похолодание именно из-за этого неустойчивого интермедиата. Кстати, его существование, так же как и бозона Хиггса, предсказали теоретически — это сделал еще в 1949 году немецкий химик Рудольф Криге. Сегодня эту частицу наконец «поймали», осталось оценить, насколько велико ее влияние на температуру атмосферы Земли.
Intermedius в переводе с латинского означает «промежуточный». В химии интермедиатом называют промежуточное соединение, которое образуется при взаимодействии исходных веществ и очень быстро вступает в следующую реакцию (разложения, взаимодействия с другим интермедиатом, стенкой сосуда или молекулой), образуя конечные продукты.
Простейшая реакция горения водорода записывается так: 2H2 + O2 = 2H2O. Можно представить, что две молекулы водорода реагируют с одной молекулой кислорода, образуя две молекулы воды. Однако на самом деле для этого должны были бы встретиться в одной точке две молекулы водорода с одной молекулой кислорода, а это крайне маловероятно. К тому же нет никакой гарантии, что, встретившись в одном месте, все молекулы будут иметь достаточную энергию для того, чтобы прореагировать. Это значит, что горение водорода происходит не в одну стадию, как записано в уравнении, а через множество промежуточных реакций, в результате чего интермедиаты превращаются в конечный продукт — воду. Кстати, горение водорода — единственная детально изученная цепная реакция горения, для которой известны все параметры. Горение углеводородов исследовано намного хуже. Процесс, о котором пойдет речь дальше, также протекает с участием интермедиатов.
В первой половине ХХ века Рудольф Криге изучал взаимодействие непредельных органических соединений (этилена C2H4 и ацетилена C2H2) с озоном O3. В 1949 году он предложил механизм этой реакции (ее называют озонолиз): через формирование интермедиата вида R1(R2)–C–O–O (карбонилоксид, или интермедиат Криге), где R1 и R2 — органические радикалы. Строго говоря, интермедиат Криге — это не одна молекула, а целое семейство молекул похожего строения, обязательно содержащее группу (–C–O–O). Примечательно, что в то время озонолиз служил методикой исследования структуры органических соединений, поскольку продукты этой реакции строго соответствуют строению ненасыщенной молекулы, которая взаимодействовала с озоном.
В простейшем случае, когда с озоном реагирует этилен C2H4, на первой стадии реакции образуется комплекс этилена с озоном — озонид C2H4(O3). Это малоустойчивая молекула (также интермедиат), распад которой дает формальдегид H2C=O и интермедиат Криге (в данном случае H2C–O–O). Интермедиат Криге настолько активен, что не может существовать в неизменном виде и долей секунды. Именно высокая реакционная способность не дает возможности наблюдать его с помощью обычных инструментальных методов. Основными конечными продуктами всего этого множества реакций будут формальдегид H2C=O и муравьиная кислота HCOOH, то есть этилен расщепляется озоном по двойной связи на две части.
Молекулы простейшего интермедиата Криге (I), диоксирана (II) и муравьиной кислоты (III). Последний изомер (муравьиная кислота) имеет такой же состав, как интермедиат Криге, но другие свойстваУниверсальность и ценность гипотезы Криге в том, что реакция озонолиза любого непредельного углеводорода протекает через образование интермедиата, носящего его имя. В свое время Криге не мог экспериментально доказать существование предсказанной им частицы — чтобы ее поймать, понадобилось 63 года.
Как ни странно, интермедиат Криге обнаружили не в реакции озонолиза. В 2012 году группа британских и американских ученых исследовала реакцию метилениодида CH2I2 с кислородом O2. (Реакцию проводили под давлением 4 мм рт. ст. в избытке кислорода, смесь облучали светом с длиной волны 248 нм.) Продукты взаимодействия анализировали с помощью масс-спектрометрии. Под действием света образовался атомарный иод (I) и очень активный радикал CH2I, который и инициировал реакцию с кислородом. В результате были получены спектры простейшего из интермедиатов Криге, а именно H2C–O–O.
CH2I2 + hν (248 нм) → CH2I + I;
CH2I + O2 → CH2IOO;
CH2I + O2 → CH2O + IO;
CH2I + O2 → I + CH2O2.Примечательно, что простейший интермедиат Криге имеет еще два изомера и все они были обнаружены в реакционной смеси.
Авторы исследования также определили константы реакций интермедиата Криге с водой и моноксидом азота NO, поскольку именно от этих реакций зависит влияние интермедиата Криге на климатические процессы.
Интермедиат Криге — очень сильный окислитель. Например, его взаимодействие с оксидами азота дает радикал NO3. По расчетам концентрация последнего при этом может вырасти примерно на 20% по сравнению с моделью, когда окислителем в атмосфере работает только гидроксильный радикал ОН. Кроме того, интермедиат Криге активно окисляет диоксид серы SO2, концентрация которого в атмосфере городов доходит до 1,0 мг/м3, а также уксусную кислоту CH3COOH и муравьиную кислоту HCOOH (при нормальных условиях это жидкости, а при низких давлениях они существуют в виде газа или аэрозоля). Классическая модель учитывает окисление этих кислот только гидроксильным радикалом OH.
Возникают два закономерных вопроса. Окисляет — и что дальше, при чем тут похолодание? И откуда, собственно, в атмосфере интермедиаты Криге?
Дело в том, что продукты окисления образуют аэрозоли, которые частично поглощают солнечный свет, и соответственно меньшее его количество доходит до поверхности земли. Таким образом, окислительные процессы в атмосфере с участием OH и интермедиата Криге приводят к результатам, противоположным парниковому эффекту. Более того, если эти процессы будут очень активными, то они смогут не только уравновесить парниковый эффект, но и так сильно понизить температуру, что наступит новый ледниковый период. Оценить правдоподобность такого предсказания непросто. Данные об окислительной силе получены только для самого первого интермедиата гомологического ряда, а более тяжелые частицы еще не изучены.
Откуда вообще берутся эти интермедиаты Криге в атмосфере? Промышленные выбросы содержат непредельные углеводороды, которые реагируют с озоном. С одной стороны, вряд ли в атмосфере очень много непредельной органики, а с другой — поскольку ученые утверждают, что интермедиаты образуются быстро и они чрезвычайно активны, — может быть, для значимого эффекта их много и не надо? Вот, например, промышленный гигант Китай стоит на первом месте по выбросам в атмосферу углекислого газа, оксидов серы, аэрозольобразующих компонентов (угольная пыль и органика) и многого другого. На фоне общего повышения среднегодовой температуры на планете в 2001–2011 годах на северо-востоке Китая и окраинах Шанхая уже было отмечено понижение температуры в среднем на 0,2 градуса. Может, в этом виноват интермедиат Криге?
Есть еще много неизвестных. Прежде всего не закрыт вопрос об изменении температуры на Земле — возможно, это периодическое явление, никак не связанное с концентрацией парниковых газов. Также пока не ясны точные значения параметров реакций интермедиата с диоксидом серы и гидроксилом. Между тем похоже, что интермедиат Криге не только усиливает действие гидроксильного радикала ОН, но и влияет на его концентрацию. Так, зимой, когда эффективность тропосферного синтеза гидроксила ОН сильно падает (поскольку это фотохимическая реакция), его концентрация в черте больших городов почти не меняется. Опять же самый простой и логичный вывод: на это влияют выбросы и образующийся из них интермедиат Криге.
И все же известие об оледенении, вызванном интермедиатом Криге, было несколько преждевременным. Может быть, его действие как-то проявится на локальном уровне в пределах промышленных центров и крупных городов, но в общепланетарном масштабе, скорее всего, его вклад будет почти незаметен. Одно можно сказать с уверенностью: химия атмосферы — гораздо более сложный процесс, чем мы думаем. И она нам преподнесет еще немало сюрпризов.
Статья подготовлена в том числе по материалам “Science”,
vol. 335, 2012, 204–207















В реакции с катализатором (нижняя кривая) последний реагирует с А, давая интермедиат Cat A, а он в свою очередь превращается в продукт Р, но с гораздо меньшими энергетическими затратами