Афротерии
«Элементы» не раз писали о том, что на рубеже XX–XXI веков в зоологии произошла настоящая научная революция. Внедрение молекулярных методов сильно изменило представления о том, как устроено эволюционное древо многоклеточных животных, то есть, грубо говоря, о том, кто чей родственник. Эти изменения оказались достаточно серьезными, чтобы можно было говорить о формировании целой новой парадигмы — системы основных идей, в русле которых идет осмысление фактов. Символом этой новой парадигмы может послужить название открытой в 1997 году группы Ecdysozoa — линяющих животных, в которую вошли членистоногие, онихофоры, тихоходки, нематоды, приапулиды и еще несколько групп червей, но удивительным образом не вошли кольчатые черви — в противовес классической зоологии, которая считала кольчатых червей прямыми предками членистоногих. Оказалось, что на самом деле ближайшие червеобразные родственники членистоногих — вовсе не кольчатые черви, а круглые. Этот вывод, сделанный сначала по данным молекулярной филогенетики, скоро был подтвержден и палеонтологией. В свою очередь, это открытие поколебало взгляды ученых на то, в какой последовательности в эволюции животных появлялись разные важные признаки (сегментация, конечности) и позволило поставить много новых интересных вопросов.
Сегодняшняя картинка дня, впервые опубликованная в 2001 году, тоже может послужить символом революции в зоологии, состоявшейся в конце XX — начале XXI века. Это было время перестройки представлений не только о родстве главных ветвей животного царства, но и о системе группы животных, лучше всего знакомой людям, — класса млекопитающих.
Современной системе млекопитающих положил начало человек, которого иногда называют Ньютоном биологии, — Карл Линней. Как известно, Линней был в основном ботаником, но в меру своих сил занимался и зоологией (тем, кто хочет узнать побольше о вкладе Линнея в зоологию, можно посоветовать прекрасную сводку, которую сделал Лев Яковлевич Боркин). Именно Линней придумал само название Mammalia — млекопитающие, то есть выкармливающие детенышей молоком с помощью сосков (лат. mammae). Линней выделил отряд приматов (к которому отнес человека, обезьян, лемуров и за компанию летучих мышей), отряды хищных, грызунов и китообразных. Он совершенно правильно сблизил жвачных с верблюдами, а ежей — с кротами и землеройками. Были у Линнея и абсолютно искусственные группировки, которые, скорее всего, он сам считал временными. Например, носорога он внезапно включил в отряд грызунов, основываясь на единственном признаке — количестве резцов в верхней челюсти. Конечно, система Линнея не была безупречной, но ее главное достоинство состояло в том, что ее было легко совершенствовать.
К XX веку система млекопитающих на отрядном уровне более-менее устоялась. Стало ясно, что в класс млекопитающих входят три давно разошедшихся эволюционных ствола: однопроходные, сумчатые и плацентарные. Сейчас нас интересуют только последние. Американец Джордж Симпсон, крупнейший в XX веке исследователь эволюции млекопитающих, выделял 16 отрядов плацентарных: насекомоядные, шерстокрылы, рукокрылые (летучие мыши и крыланы), приматы (включая тупай), неполнозубые, панголины, зайцеобразные, грызуны, китообразные, хищные (включая ластоногих), трубкозубы, хоботные, даманы, сирены, непарнокопытные и парнокопытные. Среди них есть такой гигантский отряд, как грызуны, а есть и отряд трубкозубов, в котором всего-навсего один современный вид. Но все они, по замыслу Симпсона, должны были соответствовать эволюционным ветвям примерно одного ранга.
Самым проблемным отрядом плацентарных были, пожалуй, насекомоядные. К этому отряду традиционно относили небольших, относительно примитивных (если судить по зубной и двигательной системе) зверей, питающихся в основном беспозвоночными. Что это за звери? Прежде всего — хорошо знакомые людям ежи, землеройки и кроты, считая и водяных кротов, которые называются выхухолями (см. картинку дня Русская выхухоль). Сюда же примыкают экзотические щелезубы, существующие в качестве отдельной ветви со времен динозавров, но уцелевшие только на островах Куба и Гаити. Кроме того, есть несколько особых групп насекомоядных, распространенных исключительно в Африке. На Мадагаскаре, и только там, живут тенреки, своеобразные зверьки, похожие на ежей, но вовсе не являющиеся их близкими родственниками (см. картинку дня Ежовый тенрек). В Южной и Восточной Африке живут златокроты, пушистые подземные обитатели, сходство которых с настоящими кротами — чисто конвергентное (см. синопсис Бодибилдинг для землероев или вопрос систематики?). В Западной и Центральной Африке живут выдровые землеройки, знакомые читателям Джеральда Даррелла по книге «Перегруженный ковчег». Нечего и говорить, что к настоящим землеройкам они не имеют никакого отношения. И наконец, по всей Африке довольно широко распространены удивительные звери — прыгунчики. Сочетание хоботка (как у землеройки) и длинных лап, дающих возможность хорошо прыгать (как у тушканчика) придает им совершенно уникальный облик. Прыгунчики отличаются от других «насекомоядных», в частности, тем, что у них, в отличие от всех выше перечисленных, есть слепая кишка. Поэтому в отряд насекомоядных их включали с известной долей условности.
Самая большая проблема, однако, заключалась не в составе какого-либо отряда плацентарных, а в полной неясности родственных отношений между этими отрядами. Здесь пролегала настоящая научная terra incognita. Макросистема млекопитающих десятилетиями перетасовывалась, но ни к каким прорывам и озарениям это не приводило.
Своего рода итог этого этапа развития систематики млекопитающих был подведен в работах американского палеонтолога Майкла Новачека (Michael Novacek). В 1992 году он выпустил статью, в которой предложил вниманию публики следующее эволюционное древо:
Рассмотрим как можно внимательнее часть этого древа, отведенную плацентарным. Самое обособленное положение на ней занимают южноамериканские неполнозубые — броненосцы, муравьеды и ленивцы; здесь эта группа обозначена как Edentata, но чаще ее называют Xenarthra. К ней, по тогдашней гипотезе, примыкают другие странные существа — азиатские и африканские панголины (Pholidota). Ветвь ксенартр и панголинов выглядит сестринской по отношению ко всем остальным плацентарным, вместе взятым.
Далее мы видим зайцеобразных (Lagomorpha) и грызунов (Rodentia). Новачек поддерживает объединение этих двух отрядов в группу Glires («грызуны в широком смысле»). Несколько неожиданно к ветви Glires присоединяются прыгунчики (Macroscelidea). Новачек оговаривает, что это лишь одна из гипотез, но отнесение прыгунчиков к насекомоядным он в любом случае считает искусственным и устаревшим.
Затем идет большой «куст», в который входят приматы (Primates), тупайи (Scandentia), шерстокрылы (Dermoptera) и рукокрылые (Chiroptera). Где-то в окрестностях этого «куста» ответвляются насекомоядные (Insectivora) и хищные (Carnivora).
Все остальные плацентарные — это копытные (правда, в самом наиширочайшем смысле слова). Среди них мы видим парнокопытных (Artiodactyla), непарнокопытных (Perissodactyla) и китообразных (Cetacea). Происхождение последних от парнокопытных было к 1992 году уже установлено. Впрочем, будем аккуратны. Можно ли сказать, что киты произошли от парнокопытных? В рамках господствующей сейчас кладистической систематики это неверно. Киты — не потомки парнокопытных (такого понятия кладистика вообще не признает), а ветвь внутри парнокопытных, и с этой точки зрения кашалот ничем не отличается от какого-нибудь горного барана. В 1997 году группа, состоящая из парнокопытных и китообразных, получила название «китопарнокопытные» (Cetartiodactyla). Но последовательные сторонники кладистики с этим не согласны. Совсем недавно, в 2021 году, вышла подписанная группой известных зоологов статья, в которой было предложено отказаться от названия Cetartiodactyla и называть всю эту группу животных (включая китов) парнокопытными без всяких оговорок. На этом примере хорошо видно одно из «слепых пятен» кладистики — ее фактический отказ признавать крупные эволюционные переходы, основанные на принципиально новых адаптациях. Мол, сколько ни осваивай новую среду, а если ты был парнокопытным, то им же навеки и останешься.
Однако вернемся к древу Новачека. Среди «копытных в широком смысле» на нем фигурируют африканские трубкозубы (Tubulidentata), а также хоботные (Proboscidea). Идея, что слоны — это, в сущности, сильно обособленные копытные, высказывалась давным-давно. Сложность здесь в том, что есть еще два современных отряда млекопитающих, которые внешне совсем не напоминают слонов, но (как стало понятно еще в XIX веке) близки к ним по многим анатомическим признакам. Это даманы (Hyracoidea), отдаленно похожие на толстых сурков (см. статью Жанны Резниковой И даман поманил за собой), и сирены (Sirenia) — группа очень необычных водных млекопитающих, в которую входят ламантины, дюгони и истребленная человеком в XVIII веке стеллерова корова. Хоботные, даманы и сирены вместе называются Paenungulata, что значит «почти копытные». Этой группой древо Новачека и заканчивается.
Научная революция началась в 1997 году, когда в Nature вышла небольшая статья под названием «Эндемичные африканские млекопитающие перетряхивают филогенетическое древо». Авторы этой статьи с удивлением обнаружили, что анализ последовательностей митохондриальной ДНК объединяет пенунгулят (даманов и ламантинов) с трубкозубами, прыгунчиками и златокротами. Они начали проверять этот странный результат и выяснили, что данные по генам рибосомных РНК, а также по нескольким обычным белок-кодирующим генам (вроде генов адренорецепторов) хорошо с ним согласуются. Молекулярные данные подтвердили классическую гипотезу о том, что слоны родственны даманам и сиренам — это неожиданностью как раз не было. Но при чем тут насекомоядные? Особенно удивительно было то, что в родственники слонов и прочей компании попали златокроты. Это означало, что даже насекомоядные в наиболее узком смысле (Lipotyphla) — на самом деле сборная группа. Вырисовывалась следующая гипотеза: Африка, которая была в меловом периоде длительно изолирована от других континентов (в частности, от Европы), дала за это время совершенно особую ветвь плацентарных млекопитающих, внутри которой образовались и собственные насекомоядные, и собственные «почти копытные».

Очертания континентов в середине позднего мела, 85 миллионов лет назад. Африка изолирована. Для удобства на карту нанесены тонкими линиями современные контуры континентов. Африка выделена красным цветом. Иллюстрация из той же статьи, что и заглавная картинка. Характерен ее заголовок: «Тектоника плит встречается с геномикой»
Очень скоро эти исследования были продолжены. Расширение как круга объектов, так и набора изученных генов подтвердило, что особая ветвь африканских плацентарных действительно существует. В нее входят хоботные, сирены, даманы, трубкозубы, прыгунчики, тенреки, выдровые землеройки и златокроты (но не входят обычные кроты, ежи и землеройки, которые находятся совсем в другой части родословного древа плацентарных). Эта удивительная группа получила название Afrotheria.
Подборку ее представителей мы и видим на нашей заглавной картинке. Это африканский лесной слон (Loxodonta cyclotis), золотистая хоботковая собачка (Rhynchocyon chrysopygus), трубкозуб (Orycteropus afer), полосатый тенрек (Hemicentetes nigriceps), восточный даман (Dendrohyrax validus) и дюгонь (Dugong dugon). Золотистая хоботковая собачка представляет отряд прыгунчиков, про остальных пояснения не нужны.
Некоторые молекулярные признаки способны убедить даже дилетанта в том, что эволюционная ветвь Afrotheria действительно существует. Например, удалось показать, что у слонов, дюгоней, даманов, трубкозубов, прыгунчиков, златокротов и тенреков есть уникальная делеция (пропуск девяти пар нуклеотидов) в 11-м экзоне гена BRCA1, продукт которого участвует в репарации ДНК (у человека мутации этого гена влияют на частоту рака молочной железы). Ни у каких млекопитающих, кроме афротериев, этой делеции нет. Ее точное повторение в разных эволюционных ветвях маловероятно — скорее всего, она произошла только один раз. Это прямое доказательство родства всех афротериев друг с другом.
Итак, в группу афротериев входит шесть современных отрядов: хоботные, сирены, даманы, трубкозубы, прыгунчики и африканские насекомоядные (Afrosoricida). Шесть отрядов — это почти треть от общего числа ныне существующих отрядов плацентарных. Сюда относятся как самые мелкие, так и самые крупные африканские млекопитающие: малый длиннохвостый тенрек (Microgale longicaudata) весит от 5 до 12 граммов, а африканский слон — 5 тонн.
Дальнейшие молекулярные исследования позволили быстро, за несколько лет, построить новую систему млекопитающих, аналогичную широко известной новой филогении животных (The new animal phylogeny). Оказалось, что все плацентарные млекопитающие делятся на четыре эволюционные ветви. Первая из них — это Xenarthra, южноамериканские неполнозубые. Вторая — Afrotheria. В третью ветвь входят Glires (грызуны и зайцеобразные), а также приматы и их родственники (тупайи и шерстокрылы). Эта группа называется Euarchontoglires. И наконец, к последней ветви относятся все остальные плацентарные: настоящие насекомоядные (Eulipotyphla), рукокрылые, панголины, хищные, непарнокопытные и китопарнокопытные. Эта группа называется Laurasiatheria, по названию существовавшего в мезозое северного суперконтинента Лавразии. Происхождение Euarchontoglires и Laurasiatheria, судя по всему, в целом связано с северными континентами, а не с южными, как происхождение Xenarthra и Afrotheria. Euarchontoglires и Laurasiatheria ближе родственны друг другу, чем прочим плацентарным, поэтому их объединяют в группу более высокого ранга, которая называется Boreoeutheria («северные настоящие звери»). Возможно, плацентарные как таковые возникли на одном из южных континентов, а потом некоторые из них переселились на один из северных, что и дало начало ветви Boreoeutheria. Насколько вся эта система нова, видно хотя бы из того, что большинство перечисленных названий пришлось придумывать специально для нее.

Молекулярное древо млекопитающих. Здесь хорошо видны ветви Laurasiatheria, Euarchontoglires, Xenarthra и Afrotheria и изображены их представители. Рисунок из статьи R. W. Meredith et al., 2011. Impacts of the Cretaceous Terrestrial Revolution and KPg Extinction on Mammal Diversification
Вместе с тем нельзя сказать, что с приходом молекулярной филогенетики старая система млекопитающих полностью разрушилась, так что новую пришлось строить с нуля. Многие классические гипотезы молекулярная филогенетика подтвердила. Максимальная обособленность южноамериканских неполнозубых, родство слонов с даманами и сиренами, грызунов с приматами, а хищных с копытными, происхождение китов от парнокопытных — все эти идеи отнюдь не были придуманы молекулярными биологами: они фигурировали и у систематиков «домолекулярной эры» (убедиться в этом легко, почитав того же Симпсона). Иное дело, что они десятилетиями оставались дискуссионными, молекулярный же подход практически закрыл эти дискуссии. Но, так или иначе, новая система млекопитающих сформировалась на основе старой. Недаром в одной обзорной статье, вышедшей в 1999 году, текущее состояние систематики млекопитающих было охарактеризовано как «возникающая смесь нового и старого» (the emerging mix of new and old). Парадоксальная группа Afrotheria стала здесь, пожалуй, единственным исключением — ее существования не предсказал вроде бы никто.

Еще одно, более позднее, молекулярное древо млекопитающих. Некоторыми деталями это древо отличается от предыдущего. На предыдущем древе афротерии и ксенартры объединены в крупную ветвь, «симметричную» ветви лавразиатериев. На более новом древе этого объединения нет — его не удалось подтвердить. Кроме того, на обоих деревьях показан не только порядок расхождения эволюционных ветвей, но и примерное время этого расхождения, установленное методом расслабленных молекулярных часов (см. Членистоногие подтверждают реальность кембрийского взрыва, «Элементы», 17.11.2013). Рисунок из статьи N. M. Foley, M. S. Springer, E. C. Teeling, 2016. Mammal madness: is the mammal tree of life not yet resolved?
Конечно, биологи сразу же заговорили о том, что в группах Laurasiatheria и Afrotheria произошла параллельная эволюция. В этих двух ветвях независимо появились крупные растительноядные (копытные и слоны), ежеобразные (ежи и тенреки), кротообразные (кроты и златокроты), землеройкообразные (настоящие и выдровые землеройки), полностью водные (китообразные и сирены) и, наконец, «муравьедообразные» формы с редуцированной зубной системой и длинным языком, специализированные к поеданию общественных насекомых (панголины и трубкозубы; см. картинку дня Язык панголина). Только аналогов хищных среди афротериев, во всяком случае современных, почему-то нет.
Но что вообще объединяет таких разных животных, как слоны и тенреки? Разумеется, родство. Но выражено ли оно хоть как-нибудь морфологически — другими словами, в анатомическом строении? Увы, все попытки выдвинуть на эту тему хоть какую-то жизнеспособную гипотезу пока что потерпели фиаско. Была, например, версия, что общей исходной особенностью афротериев послужило мощное рыло, снабженное дополнительными мышцами. У «насекомоядных» зверей и у прыгунчиков это привело к формированию небольшого хоботка (как у настоящих кротов и особенно у землероек), у трубкозуба морда тоже вытянутая и подвижная — примерно как у муравьеда, у сирен рыло хоть и не вытянуто, но тоже увеличено и подвижно, облегчая захват растительной пищи, ну а у слонов развился настоящий хобот. Красивая идея, но проверки она не выдержала: детальное сравнительно-анатомическое исследование показало, что в разных группах афротериев «хобот» образуется на основе разных мышц. Найти морфологические признаки, несомненно общие для всех афротериев, пока не удается.
А что, если таких признаков вообще нет? «Представляется, что разделение плацентарных млекопитающих на отряды произошло существенно раньше, чем их морфологическая диверсификация, которая становится очевидна в палеонтологической летописи ближе к мел-палеогеновой границе», — пишет австралийский биолог Саймон Истиэл (Simon Easteal). И действительно: во времена динозавров, которые тут же съедали всех слишком крупных млекопитающих, набор экологических ниш для последних был ограничен. Все они были более-менее похожи друг на друга (или, если угодно, на мадагаскарских тенреков и антильских щелезубов, которые, судя по всему, мало изменились с тех пор). Зато известно, что во второй половине мелового периода разные континенты были сильно изолированы друг от друга (см. вышеприведенную карту). В этой ситуации расхождение крупных ветвей млекопитающих, по мнению Истиэла, определялось не столько разделением экологических ниш, сколько географической изоляцией. На первых шагах этого процесса никакой морфологической специализации могло и не быть. А уж затем каждая ветвь начала самостоятельно осваивать доставшийся ей континентальный мир.
Рисунок из статьи S. Blair Hedges, 2001. Afrotheria: Plate tectonics meets genomics. Изображения животных взяты из книг Джонатана Кингдона (Jonathan Kingdon), зоолога и художника, знатока африканской фауны млекопитающих и автора многих книг о ней.
Сергей Ястребов
-
Афигеть! Чудны дела твои, господи!
Вопрос. Как я понимаю, вся эта система держится на генетике/молекулярке рецентных животных. А как быть с вымершими таксонами? Выбросить?
Как бы жалко. Общая картина сильно обедняется. -
Но остаётся ряд вопросов. Я правильно понимаю, что большая часть фауны современной Африки, как то все копытные, приматы, хищники, грызуны – попали на континет из Евразии, когда Африка "врезалась" в неё? А слоны, получается, двинулись захватывать мир в обратном напоавлении? Ведь не могут же азиатские слоны, мамонты и другие хоботные, в том числе Нового Света, иметь независимое от африканских слонов происхождение.
Ещё интересно, кто в Африке занимал нишу хищников, пока настоящие хищные не проникли на континент? Известно это?
Забавно получается, что приматы, видимо, появились в Азии, а потом оттуда проникли в Новый Свет и Африку. А потом из Африки обратно ломанулись в Азию (орангутаны и гиббоны) и распространились по всей планете (человек).
Последние новости

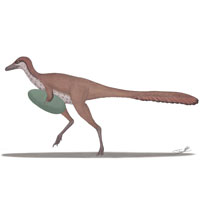

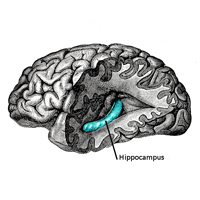

























«Древо Новачека». Пояснения — в тексте. Латинские названия, попавшие на эту схему, в тексте для удобства выделены курсивом. Вымершие группы игнорируются. Рисунок из статьи M. J. Novacek, 1992. Mammalian phylogeny: shaking the tree