«Захватчики». Глава из книги
Глава 7. На что похоже вторжение?
Давайте прервемся, чтобы посмотреть, как происходят вторжения и какие свидетельства о них можно раздобыть на раскопках и из археологических находок. Успешность инвазивного вида на новой территории зависит от его способности к воспроизводству и увеличению численности популяции, а также от того, сможет ли он ухватить свою долю (и не только свою) доступных ресурсов. О резком росте численности популяции можно судить по ископаемым и археологическим находкам. Безусловно, появление хищных древних людей на территории Евразии и последующий рост их численности не вызывают никаких сомнений.
Новый хищник оказывает сильное воздействие на всю экосистему. В обзоре, посвященном текущему положению крупных хищников в современном мире, над которым работала группа ведущих экологов, Вильям Райпл из Орегонского университета с коллегами писал: «В рамках классического подхода считается, что влияние крупных хищников распространяется вниз по пищевой цепочке вплоть до травоядных животных и до растений, однако мы выяснили, что широко распространяется их каскадное влияние на другие виды через воздействие на плотоядных животных средних размеров... Двойственная роль крупных плотоядных состоит в потенциальном ограничении численности как крупных травоядных животных вследствие использования их в пищу, так и средних плотоядных вследствие конкуренции внутри одной гильдии, что структурирует экосистему вдоль нескольких направлений по пищевой цепи. Эти факторы оказывают влияние на структуру и устойчивость функционирования экосистемы»1.
Как правило, появление инвазивных видов считается основной причиной вымирания местных видов. Очевидным последствием вторжения хищного вида является исчезновение или уменьшение изобилия тех видов, которые служат ему добычей, — чем больше хищников, тем больше травоядных они съедают. С другой стороны, снижение числа травоядных животных, в свою очередь, повышает разнообразие и количество растений. В итоге риску вымирания подвергаются прежде всего те виды, которые экологически наиболее близки к инвазивному виду, то есть являются основными его конкурентами. Очень часто при успешном вторжении хищника происходит так называемый трофический каскад сверху вниз — ряд изменений, которые отражаются на всей экосистеме; удаление высшего хищника может привести к каскаду изменений снизу вверх трофической пирамиды2. Трофические каскады были зарегистрированы в семи из 31 современной экосистемы, которые сегодня включают в себя крупных плотоядных животных3.
Давайте рассмотрим подробно задокументированное «вторжение» хищника и вызванный им трофический каскад в какой-нибудь знакомой нам экосистеме. Если вам не довелось побывать в Йеллоустоунском национальном парке, несколько цифр помогут оценить и понять, что должен продемонстрировать данный пример. Мы привыкли думать, что природные парки, даже национальные, занимают не очень большие территории. Но не в этом случае. Великая экосистема Йеллоустоуна расположилась на территории в 72 800 км2 и по площади практически не уступает Ирландии. Сам парк занимает площадь 8991 км2. Экосистема парка огромная и дикая, а современная политика парка препятствует любому вмешательству со стороны людей.
Прежде чем в 1872 г. Йеллоустоун получил статус национального парка, множество местных народов, населявших его территорию — шошони, банноки, не-персе, флатхеды, кроу и чейенны, — были уничтожены или вытеснены со своих территорий в ходе нескольких жестоких военных кампаний, получивших общее название Индейские войны. Впрочем, небольшая численность коренного населения сохранилась на этих территориях. Они продолжали заниматься охотой в окрестностях парка. Присутствие «диких бунтарей-индейцев», как их описывали в те времена, считалось неприемлемым и несовместимым с поселениями белых людей, а потому было предпринято множество попыток, по большей части удачных, направленных на уничтожение этих племен или вытеснение их в резервации.
Прибывавшие белые поселенцы выступили в роли инвазивных хищников и быстро устранили своих главных конкурентов — волков. Людям требовалось все больше свободных земель для ведения сельского хозяйства, поэтому федеральное правительство открыто проводило политику, направленную на уничтожение волков. В 1915 г. конгрессом США было учреждено Федеральное бюро биологического осмотра, в составе которого было создано подразделение по контролю за хищниками и грызунами. В его задачи входило уничтожение волков и других крупных хищников на всех федеральных землях. Не удивительно, что путешественники, торговцы, фермеры и поселенцы Американского запада остались довольны. Тысячелетиями серые волки были частью экосистемы Йеллоустоуна, но к 1930 г. они практически исчезли, поскольку фермеры и животноводы, заселявшие запад, уничтожали этих опасных конкурентов.
Уничтожение волков, местных высших хищников, привело к масштабным изменениям в экосистеме. До истребления популяции этих хищников волки и местные племена индейцев, по всей видимости, сдерживали рост численности популяции благородного оленя, которая теперь составляет приблизительно 80% от численности травоядных животных4. Исследователь дикой природы Чарльз Кей из Университета штата Юта изучил записи, сделанные в ходе 26 различных экспедиций, которые прошли по территории Великой экосистемы Йеллоустоуна в период с 1792 по 1872 г. За 369 дней путешественники наблюдали оленей всего 12 раз5. Очевидно, что они встречались тогда крайне редко.
Как только завершилось истребление волков, число оленей выросло до 19 000 особей. Численность этих животных была признана избыточной, поскольку вследствие поедания оленями молодых побегов и листьев растений природному пастбищу был нанесен серьезный урон. Кроме того, в тех местах, где раньше, судя по историческим фотографиям, стояли высокие ивы и осины, в период отсутствия волков растения активно поедались оленями, а область распространения этих видов растений сократилась до 5% от исторически занимаемого в экосистеме. Была запущена сомнительная программа по планомерному сокращению численности оленей, вилорогов и бизонов путем их отстрела и вылова. К 1960-м гг. популяция оленей сократилась на 75% до приблизительно 4000 особей. Снижение численности привело к непредвиденным последствиям — охота на оленей за пределами парка, которая являлась когда-то популярным развлечением и способом привлечения туристов, стала практически невозможной. В 1969 г. программу закрыли и обратились к более естественным методам регулирования. Численность популяции оленей снова выросла, а охота возобновилась6.
Койоты, которые являются прямыми конкурентами волков, стали столь многочисленны, что плотность их популяции достигла максимального значения за всю историю наблюдений. Это было прямым следствием их освобождения от давления со стороны более крупных и сильных хищников — волков.

В 1995–1996 гг. на территорию парка выпустили волков (31 особь) из двух канадских волчьих стай, чтобы восстановить естественный баланс экосистемы и вернуть ее к тому состоянию, которое предшествовало поселению здесь людей, прежде всего европейского происхождения (рис. 7.1). В 2002 г. на территории Великой экосистемы Йеллоустоуна обитали 216 волков, что уже было близко к максимальной емкости экосистемы. Теперь волки круглый год обитают на строго охраняемой территории (преимущественно на территории национального парка), несмотря на то что большая часть травоядных животных мигрирует. Между 1995 и 2002 гг. из 1582 зарегистрированных жертв волков на долю оленей пришлось 92%. Волки, если и охотятся на самок оленей, то выбирают более старых, тогда как люди предпочитают подстрелить олениху помоложе, то есть самого репродуктивного возраста. Вместе с тем и волки, и люди охотятся преимущественно на оленей-самцов. Бизоны составляли малую часть убитых волками травоядных животных. Общая численность популяции оленей сократилась примерно на 7% в течение первых 10 лет после подселения волков. Кроме того, олени, опасаясь хищников, перестали, как прежде, сбиваться в крупные стада7.
Когда поголовье оленей сократилось, увеличилось количество ив и осин, растущих вдоль рек и ручьев Йеллоустоуна. Более плотные заросли способствовали выживанию в парке большего числа птиц, мелких млекопитающих и американских лосей. После возвращения волков на территории парка появилось четыре колонии бобров, хотя в период отсутствия волков бобров в парке не было. Кроме того, в зимний период туши, оставшиеся от волчьей охоты, обеспечивали питанием воронов, орлов и медведей8. В одном исследовании было зафиксировано, что хищникам и падальщикам ежегодно достается около 13 т туш животных, ставших добычей волков Йеллоустоуна.
После реинтродукции волков поголовье оленей сократилось до 11 700 особей, тогда как ожидаемая численность составляла 15 500 особей. Однако зима 1996–1997 гг. была необычно суровой, и это, возможно, отразилось на смертности оленей. В 2003 г., всего шесть лет спустя, популяция оленей составляла примерно 14 500 особей9.
Не только виды-жертвы, но и койоты, которые узурпировали место высших хищников, по праву принадлежащее волкам, почувствовали сильное давление со стороны вновь появившихся волков. В исследовании, начатом за шесть лет до реинтродукции волков в Йеллоустоуне, биологи Роберт Крабтри и Дженнифер Шелдон из Йеллоустоунского центра экологических исследований описали численность и охотничьи повадки койотов Йеллоустоуна10. Ученые с помощью радиомаяков пометили 129 особей в северной части парка и отслеживали еще 37 койотов на протяжении пяти лет, получив в общей сложности 200 «койото-часов» наблюдений. Численность популяций койотов так сильно выросла, что они стали сбиваться в социально структурированные стаи, подобные волчьим. Восемьдесят койотов из долины Ламар, за которыми велись интенсивные наблюдения, составили семь стай со средней численностью шесть особей в стае. В 1993 г. стая Пика Бизона в долине Ламар состояла из 10 взрослых особей и 12 щенков (по причине двойного потомства). Средняя плотность популяции койотов в северной части парка составляла 0,45 особей на 1 км 2.

Рис. 7.2. Эта драматическая фотография волка, преследующего койота, иллюстрирует конкуренцию между новыми и бывшими высшими хищниками
Почти сразу после своего появления в 1995 г. волки начали убивать и прогонять койотов (рис. 7.2). Как будто первым пунктом в их повестке значилось «избавиться от койотов», как в свое время первым пунктом повестки фермеров и переселенцев было «избавиться от индейцев», а затем «избавиться от волков». Попросту говоря, волки не станут терпеть присутствия соперников-койотов на своей территории, и они были так же безжалостны к членам других волчьих стай, которые забредали на их территорию. В течение трех лет численность наблюдаемых койотов снизилась с 80 особей в 12 стаях (в среднем по шесть особей в стае) до 36 особей в девяти стаях (по четыре особи в стае). Плотность популяции койотов упала почти на 90% в центральных районах (долина Ламара), которые активно осваивали волчьи стаи, и примерно на 50% на всей территории. Сокращение популяции койотов существенно повысило выживаемость детенышей вилорогов. Около 68% убитых хищниками «жертв» можно отнести к истреблению конкурентов внутри гильдии хищников11. Прямая конкуренция — это не просто теория, это вполне реальное и очень опасное явление.
Однако те койоты, которые выжили или не подвергались атакам, только выиграли, получив возможность питаться зимой останками оленей, убитых волками, так же как и вороны, орлы, медведи и другие хищники. Улучшенное зимнее питание способствует выживанию щенков койотов весной, что является важной мерой репродуктивного успеха12.
Один из самых запоминающихся случаев в моей жизни произошел, когда в Йеллоустоуне в 2012 г. я увидела стаю Ламар Каньон, состоящую из восьми волков. Они поедали убитого бизона. Я не знаю, они его убили или он погиб от ран, полученных во время сезонного спаривания; обе причины вполне обыденны. Стая жадно поела, после чего отправилась вниз к реке на водопой. Сытый молодняк выплескивал избыток энергии в шумной возне, играх и плавании. Животные постарше дремали на солнце, в том числе и великолепная альфа-волчица «06» (рис. 7.3), история которой документировалась несколько лет. Гид рассказал нам, что этим утром стая убила волка-чужака из стаи Молли, обитавшей за холмом.

Рис. 7.3. Уильям Кэмпбелл из службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США сделал этот великолепный портрет волчицы «06», которая создала и на протяжении нескольких лет вплоть до своей безвременной кончины возглавляла стаю Ламар Каньон в Йеллоустоуне
Вдруг я увидела, что возле туши началась какая-то активность. Я разглядела волка, поедающего тушу, хотя ни один волк из стаи Ламар Каньон не покидал берега реки. Я обратила внимание своих спутников, и мы затаили дыхание в ожидании дальнейших событий. Спустя несколько мгновений после того, как я заметила одинокого бродячего волка, «06» вдруг раскрыла глаза и дернула ушами. Через секунду она уже была на ногах и бежала обратно к туше, а следом за ней и остальные члены стаи. Они начали преследовать чужака, который решился на попытку похищения пищи, покусившись на бизонью тушу этой стаи. Погоня была долгой и захватывающей — стая Ламар Каньон уже почти настигла нарушителя, но из-за усиливающейся усталости преследователей одинокому волку удалось увеличить отрыв; потом погоню возглавил сильный волк, которому удалось приблизиться к чужаку. Я не знаю, за кого я больше болела в этой смертельной погоне. Погоня завершилась, когда преследователю удалось схватить чужака за хвост. Тут подоспели и вступили в схватку другие волки из стаи Ламар Каньон. Финал этого столкновения мне не удалось увидеть из-за кустарника, но, когда волки боролись, мех летел во все стороны. Чужака разорвали на куски, вот и все, что я могу сказать. Никогда он уже не сможет подняться и уйти.
Стая Ламар Каньон вернулась к отдыху под лучами солнца возле реки, при этом молодняк был возбужден всем произошедшим. Примерно через час наш проводник заметил огромного медведя гризли, выходящего из лесного массива, расположенного выше по склону холма. Он направлялся прямо к туше, периодически переходя с решительного шага на бег вприпрыжку. Безо всяких сомнений, медведь унюхал добычу.
Гризли неуклюже ковылял все ближе и ближе, и в какой-то момент «06» почуяла присутствие чужака. Стая снова кинулась защищать свою добычу. Они бросили вызов медведю гризли, а мы восхищенно наблюдали за происходящим. Волчья стая окружила гризли, и стала очевидна разница в размерах между волками и медведем. Медведь, масса которого не меньше 400 кг, был намного крупнее любого волка. (Средний вес волков составляет 50 кг.) Волки бросались на медведя и кусали его, а он отвечал мощными ударами своих огромных лап. Очень скоро волки прекратили схватку, как если бы они внезапно и одновременно решили, что риск неоправданно велик. Они оставили тушу медведю и вернулись на речной берег, тогда как гризли направился к туше. Таков обычный исход противостояния гризли и волков. Гризли почти во всех схватках одерживают верх, за исключением столкновений с очень крупными волчьими стаями.
Дальнейшее развитие событий было не менее интересным. Сначала медведь ходил вокруг мертвого бизона, периодически ложился на тушу и, задрав лапы вверх, крутился и ерзал на ней, вероятно, для того, чтобы распространить свой запах и пометить тушу как свою собственность. Выглядело это откровенно смешно. Затем он отрывал от туши большие куски кожи, мяса или костей и проглатывал их. Спустя короткое время гризли снова ушел бродить по парку.
Красота волков, их игривая социализация и теплые семейные отношения сильно, даже жестоко контрастируют с абсолютно беспощадным и безжалостным преследованием чужаков. Их свирепая реакция на бродячего волка и более сдержанное отношение к гризли отчетливо различались, хотя в обоих случаях на кону была одна и та же добыча. Я уверена, что вороны, орлы, лисицы, койоты (если осмелятся) и другие животные получают часть объедков. И мне кажется, что и гризли, и стая Ламар Каньон позже еще вернутся и за второй, и за третьей порцией. Волчица «06» была опытным лидером своей стаи, сильной и умной, и она была одной из тех немногих волков, которые могли в одиночку завалить взрослого оленя. На ней был надет радио-ошейник, поэтому информация о ее перемещениях передавалась исследователям волков каждые полчаса вплоть до 6 декабря 2012 г., когда волчица погибла. Это случилось менее чем через шесть месяцев после того, как я ее видела. Волчица «06» была застрелена охотником из Вайоминга за пределами парка в 24 км от его границы. Я и многие другие, «знакомые» с волчицей, оплакивали ее. Она была волком, вызывавшим восхищение.
Наблюдение за этими поразительными схватками волков помогло мне понять, как происходит восстановление роли высших хищников и насколько этот процесс схож с инвазией высших хищников. Независимо от того, где расположена экосистема и каковы основные источники пищи, вторжение высшего хищника переворачивает все с ног на голову. Следует отметить, что реинтродукция волков в Великой экосистеме Йеллоустоуна была всего лишь географической экспансией видов на охраняемую территорию, на которой влияние человека было минимальным, а не континентальной инвазией, поскольку эти конкретные волки были перемещены из канадских волчьих стай. В прошлом, даже в период отсутствия волков в Йеллоустоуне, некоторые канадские волки время от времени случайно забредали на территорию США, где плотность населения и, вероятно, нетерпимость к волкам была выше. Трофические каскады могут происходить и происходят даже на территориях без явных географических границ и имеют далекоидущие последствия и для крупных и сложных экосистем.
Мы можем выделить несколько эффектов, вызванных инвазией (вторжением) волков в экосистему Йеллоустоуна. Во-первых, волки преимущественно убивали своих ближайших конкурентов. После реинтродукции каждое наблюдаемое убийство койота волком или стаей волков происходило вблизи туши животного, которое стало добычей волков13. Конкуренция внутри гильдии — действительно основная причина гибели представителей падальщиков.
Во-вторых, очевидным следствием является снижение плотности популяции ближайшего конкурента на своей территории. Койоты погибали, но замены погибшим не было. Плотность популяции койотов значительно снизилась — на 50% в целом и на 90% в центральных районах Йеллоустоуна, занятых волками. Конкуренция внутри гильдии часто проявляется как сильная обратная связь между численностью двух конкурирующих видов. В результате не только падает плотность популяции местного конкурирующего вида хищника, но сжимается и область его распространения в целом.
С другой стороны, введение нового высшего хищника — волков — привело к значительному повышению доступности останков животных для падальщиков. Волки Йелоустона, будучи умелыми охотниками, на протяжении суровых зимних месяцев убивали больше животных, чем могли съесть, оставляя недоеденные останки падальщикам — воронам, орлам, медведям гризли, койотам и другим. Туши оленей — основной источник зимней пищи для многих видов животных, а большая часть взрослых вапити, которые стали жертвами хищников, были убиты именно волками14. Волки обеспечивают даже больше возможностей пропитания для падальщиков, чем охотящиеся люди.
Появление нового высшего хищника часто снижает скорость воспроизводства среди видов его ближайших конкурентов. Это может быть связано с сокращением численности и плотности популяции, занимаемой территории, доступных ресурсов или просто со снижением безопасности жизни. Если по любой из названных причин темп воспроизводства конкурирующего вида снижается, это может принести серьезный ущерб.
И конечно, новый хищник оказывает отрицательное влияние на виды-жертвы. Численность их популяций падает, и, как показали наблюдения в Йеллоустоуне, может измениться и поведение потенциальных жертв — где, когда и как долго они едят, — поскольку возникает стрессовая атмосфера страха.
Экологи, изучающие эту опасную для жертвы ситуацию, дают нам важное направление для поиска причин вымирания неандертальцев. Высшие хищники занимают особенную экологическую нишу и оказывают наиболее сильное влияние на перестройку структуры экосистем в периоды климатических изменений15. Трофические каскады, затрагивающие представителей других видов, растут, поскольку влияние высших хищников усиливается во время климатических изменений.
Можно ли объяснить вымирание неандертальцев трофической тождественностью людей современного типа и инвазивных видов высших хищников, действующих в период климатических колебаний? Мы можем выделить те факторы, которые могли бы подтвердить либо климатическую гипотезу, либо гипотезу о влиянии инвазии человека современного типа. Однако нужно помнить, что они не являются взаимоисключающими. Моя идея заключается в том, что сочетание климатических изменений и инвазии современных людей создало непереносимые условия для неандертальцев, несмотря на то что к этому моменту им удавалось выживать на протяжении тысячелетий, в том числе в столь же холодных климатических условиях, как и в худшие периоды КИС 3.
Если конкуренция со стороны современных людей была главной (но не обязательно единственной) причиной вымирания неандертальцев, мы сможем выделить несколько типов свидетельств, которые должны быть обнаружены в этом случае. Для того чтобы конкуренция имела место, местный и инвазивный виды должны находиться на одном трофическом уровне в пищевой пирамиде и делить одни пищевые ресурсы. С помощью анализа фауны и изотопных исследований выполнение этого условия можно считать установленным фактом. И хотя этот факт является веским свидетельством в пользу конкуренции внутри гильдии между двумя видами, научная строгость требует более обстоятельных доказательств существования этой конкуренции.
Одним из таких свидетельств могло бы стать сокращение численности и плотности популяции неандертальцев после инвазии людей современного типа, за которым со временем последовало бы явное увеличение численности и плотности популяции современных людей. Ниже мы обсудим исследования, направленные на проверку этой гипотезы.
Еще одним свидетельством конкуренции между неандертальцами и современными людьми могло бы стать географическое распространение людей современного типа и уменьшение ареала неандертальцев. В условиях нехватки доступных территорий современные люди должны были увеличивать свой ареал, тогда как места обитания неандертальцев должны были сокращаться.
Если степень конкуренции и инвазии со стороны современного человека была высокой, то мы также должны обнаружить свидетельства вымирания других хищников как следствие давления, оказанного этим новым и умелым членом гильдии. Если мы вновь обратимся к тому моменту, когда современные люди вторглись в экосистему Йеллоустоуна, мы увидим, что для локального вымирания волков не потребовалось много времени. Сегодня люди, живущие в этой экосистеме, — особенно те, кто разводит скот, — встревожены тем, что возвращение волков может пагубно сказаться на их заработках и даже представлять смертельную опасность для их детей16. Эти страхи, обоснованные или нет, свидетельствуют о конкуренции между людьми и волками. Теперь, когда волки вернулись, койоты здесь встречаются крайне редко, а люди чувствуют, что их безопасность и средства к существованию оказались под угрозой.
Возможно, появление людей современного типа на территории Евразии заставило их опасаться присутствия неандертальцев, которые, видимо, казались им такими знакомыми, но при этом странными, иными. Мы можем только предполагать, насколько тревожащим может быть столкновение с другим видом гоминин — чем-то сродни культурному шоку, который обычно испытывают люди, оказавшиеся в месте, где говорят на неизвестном языке, носят непривычную одежду и крайне странно и непонятно себя ведут. Даже сегодня люди зачастую испытывают страх перед чужаками; а насколько ужаснее могла оказаться встреча с другим видом гоминин? Ограниченные ресурсы и конкуренция за пищу только усиливали страх. Возможно, ясного осознания конкуренции между неандертальцами и современными людьми и не было, но также вполне вероятно, что такое понимание существовало. В любом случае неандертальцы исчезли после появления современных людей и, скорее всего, довольно быстро.
Означает ли это, что изменение климата не имело отношения к вымиранию неандертальцев? Не совсем. Две выдвинутые гипотезы не исключают друг друга. Если климатические изменения были главной причиной исчезновения неандертальцев, мы должны были обнаружить независимые тому свидетельства. Имеются избыточные и надежные доказательства, полученные с помощью данных о КИС 3, анализа изменений пыльцы и растительности, меняющихся ареалов разных видов млекопитающих, приспособленных к холодному и теплому климату, соотношения между содержанием изотопов 16О и 18О в древних ледниках. Климат действительно менялся в течение КИС 3, и мы это знаем.
Побочный эффект изменения климата состоит в том, что сдвиг климатических зон или обитаемых районов обязательно должен был сопровождаться смещением области распространения неандертальцев и видов животных, служивших им добычей. Если климатические изменения были столь резкими, что привели к исчезновению неандертальцев, несмотря на то что их вид процветал долгое время, в том числе и в течение многих холодных периодов, тогда вымиранию вида должно было предшествовать сокращение ареала, обусловленное теми же меняющимися климатическими условиями. Вполне очевидно, что доступные, пригодные для жизни районы сокращались в результате климатических изменений, вынуждая неандертальцев либо адаптироваться к новым местам обитания и покидать обжитые территории, либо просто умереть. Сокращение ареалов как неандертальцев, так и видов животных, служивших им добычей, — доказанный факт. Несмотря на некоторые сомнения относительно точной датировки различных неандертальских стоянок, мы знаем, что географические районы обитания вида сокращались, а рацион их питания, как и предполагалось, в общем и целом оставался неизменным17.
Еще одно доказательство, которое мы могли бы обнаружить, состоит в увеличении во времени количества физических и анатомических признаков стрессового состояния неандертальцев. Это могло выражаться в дефектах костей или зубной эмали, что говорит о недоедании или наличии инфекции в период формировании зубов или костей. Действительно, физические признаки стресса или болезни довольно распространены среди неандертальцев18. Однако не существует способа определить, были эти признаки стресса обусловлены изменениями климата или они были вызваны конкуренцией внутри гильдии со стороны людей современного вида либо других хищников.
Даже до вторжения современных людей емкость экосистемы в отношении неандертальцев могла быть близка к пороговому значению, что делало обострение конкуренции более вероятным. Мы знаем, что в иберийской пещере Эль-Сидрон, возраст которой составляет 48 400 ± 3200 (калиброванных) лет, сохранились останки по крайней мере 12 неандертальцев: трех мужчин, трех мальчиков-подростков, трех женщин и трех младенцев. Для всех характерны повреждения зубной эмали, обусловленные гиперплазией, — результат голода или болезни. Некоторые из этих особей побывали в сильных стрессовых ситуациях в период формирования зубов19. Более того, засечки на костях неандертальцев из Эль-Сидрона, в том числе такие, которые могли остаться после скальпирования черепа, а также следы переломов длинных костей говорят о том, что эти кости были обработаны гомининами, владеющими орудиями труда. Никаких свидетельств присутствия в этой пещере человека современного типа нет, а датировка не совсем соответствует тому периоду, когда современные люди присутствовали непосредственно на этой территории. Таким образом, нет весомых оснований для того, чтобы рассматривать эту стоянку обязательно как свидетельство внутривидовой конкуренции или проявления насилия внутри гильдии. Авторы приходят к выводу, что следы обработки костей вместе с высоким уровнем зубной гиперплазии в найденных образцах явно свидетельствуют о вынужденном каннибализме, когда представители одного вида поедают друг друга, чтобы не погибнуть от голода20. Аналогичные выводы были сделаны относительно останков в Мула-Гуэрси (Франция), возраст которых около 100 000 лет, задолго до появления в Европе человека современного типа21.
Поскольку влияние инвазивного вида хищника во время климатических изменений усиливается, мы должны увидеть резкие волновые эффекты трофических каскадов в экосистеме в среде первичных потребителей или травоядных, подобные тем, которые наблюдались в Йеллоустоуне. Фактически то, что произошло в Европе в плейстоценовую эпоху, есть не что иное, как мощный переворот в гильдии хищников, который случился после появления людей современного типа. Археологические находки свидетельствуют о локальном истреблении или полном исчезновении пещерных львов, пещерных гиен, пещерных медведей, малых саблезубых кошек, леопардов и красных волков, а также о вымирании местного хищного вида гоминин — неандертальцев. Эти масштабные изменения животного мира являются характерной чертой трофического каскада, вызванного конкуренцией и инвазией.
Какие еще свидетельства мы можем привлечь для прояснения причины (или причин) вымирания неандертальцев? Одним из самых интересных и поддающихся обнаружению свидетельств является спрогнозированное изменение размеров популяций и ареалов конкурирующих видов — местного и инвазивного.
1 Ripple W., Estes J., Beschta R. et al. Status and Ecological Effects of the World’s Largest Carnivores // Science. 343. 2014, 152. doi: 10.1126 / science. 1241484.
2 Borer E., Halpern B., Seabloom E. Asymmetry in Community Regulation: Effects of Predators and Productivity // Ecology. 87..2006, 2813–2820.
3 Ripple et al. Status and Ecological Effects.
4 Fritz S., Stephensen R., Haynes R. et al. Wolves and Humans. Wolves — Their Behavior // Ecology, and Conservation. Eds. D. Mech and L. Boitani (Chicago: University of Chicago Press, 2003), 294.
5 Kay. Are Ecosystems Structured from the Top-Down?
6 Smith D., Peterson R., Houston D. Yellowstone after Wolves // Bioscience. 53. 2003, 330–340.
7 Laundre J.W., Hernandez L., Ripple W.J. The Landscape of Fear: Ecological Implications of Being Afraid // Open Ecology Journal. 3. 2010, 1–7.
8 D. Smith, E. Bang. Reintroduction of Wolves to Yellowstone National Park: History, Values and Ecosystem Restoration. Reintroduction of Top-Order Predators. Eds.M. Hayward, M. Somers (London: Blackwell, 2009), 92–124.
9 C. Wilmers, R. Crabtree, D. Smith et al., «Trophic Facilitation by Introduced Top Predators: Grey Wolf Subsidies to Scavengers in Yellowstone National Park», Journal of Animal Ecology 72 (2003): 909–916.
10 R. Crabtree and S. Sheldon, «The Ecological Role of Coyotes on Yellowstone’s Northern Range», in Carnivores in Ecosystems: The Yellowstone Experience, eds. T.W. Clark, A.P. Curlee, S.C. Minta, and P.M. Kareiva (New Haven, CT: Yale University Press, 1999), 127–163.
11 F. Palomares and T. Caro, «Interspecific Killing among Mammalian Carnivores», American Naturalist 153 (1999): 492–508.
12 Crabtree and Sheldon, «Hie Ecological Role of Coyotes».
13 D. Smith, R. Peterson, and D. Houston, «Yellowstone after Wolves».
14 C. Wilmers, R. Crabtree, D. Smith et al., «Resource Dispersion and Consumer Dominance: Scavenging at Wolf- and Hunter- Killed Carcasses in Greater Yellowstone, USA», Ecology Letters 6 (2003): 996–1003, doi: 10.1046/j.1461—0248.2003.00522.x; Wilmers et al., «Trophic Facilitation».
15 P. Zarnetske, D. Skelly, and M. Urban, «Biotic Multipliers of Climate Change», Science 336 (2012): 1516–1518.
16 Из личных разговоров автора с несколькими фермерами в долине Парадайз, 2 августа 2012 г.; D. Mech, «Wolf Restoration to the Adirondacks and Advantages and Disadvantages of Public Participation in the Decisions», in Wolves and Human Communities: Biology, Politics, and Ethics, eds. V. Sharpe, B. Noron, and S. Donnelly (Washington, DC: Island Press, 2000), 13–22; V. Geist, «When Do Wolves Become Dangerous to Humans?», September 29, 2007, http://www.vargfakta.se/wp-content/uploads/2012/05/Geist-when-do-wolves-become-dangerous-to-humans-pt-1.pdf.
17 R. Wood, T. Higham, T. de Torres et al., «A New Date for the Neanderthals from El Sidron Cave (Asturias, Northern Spain)», Archaeometry 55 (2013): 148–158, doi: 10.1111/).1475—4754.2012.00671.x; T. de Torres, J. Ortiz, R. Grim et al., «Dating of the Hominid (Homo neanderthalensis) Remains Accumulation from El Sidron Cave (Borines, Asturias, North Spain): An Example of Multi-Methodological Approach to the Dating of Upper Pleistocene Sites», Archaeometry 52 (2010): 680–705, doi: 10.1111/j/1475—4754.2009.00671.x.
18 J. Bermudez de Castro and P. Perez, «Enamel Hypoplasia in the Middle Pleistocene Hominids from Atapuerca (Spain)», American Journal of Physical Anthropology 96 (1995): 301–314; D. Guatelli-Steinberg, C.S. Larsen, and D.L. Hutchinson, «Prevalence and the Duration of Linear Enamel Hypoplasia: A Comparative Study of Neandertals and Inuit Foragers», Journal of Human Evolution 47 (2004): 65–84.
19 A. Rosas, E. Martinez, J. Canaveras et al., «Paleobiology and Comparative Morphology of a Late Neanderthal Sample from El Sidron, Asturias, Spain», Proceedings of the National Academy of Sciences USA 103 (2006): 19266–19271.
20 A. Defleur, O. Dutour, H. Valladas et al., «Cannibals among the Neanderthals?» Nature 362 (1993): 214.
21 A. Defleur, T. White, P. Valensi et al., «Neanderthal Cannibalism at Moula-Guercy, Ardeche, France», Science 286 (1999): 128–131.
Собаки
-
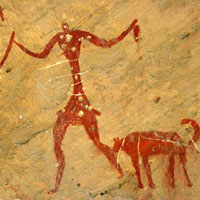 04.08.2021Что привело к появлению собак?Виктор Сергин • Библиотека • «Природа» №10, 2020
04.08.2021Что привело к появлению собак?Виктор Сергин • Библиотека • «Природа» №10, 2020 -
 15.04.2019Кошка с собакойНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №3, 2019
15.04.2019Кошка с собакойНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №3, 2019
-
 2019Что значит быть собакойГрегори Бернс • Книжный клуб
2019Что значит быть собакойГрегори Бернс • Книжный клуб
-
 08.03.2018Долгий собачий взглядН. Анина • Библиотека • «Химия и жизнь» №2, 2018
08.03.2018Долгий собачий взглядН. Анина • Библиотека • «Химия и жизнь» №2, 2018
-
 2017Люди и собакиДоминик Гийо • Книжный клуб
2017Люди и собакиДоминик Гийо • Книжный клуб
-
 11.04.2017На что похоже вторжение? («Захватчики». Глава из книги)Пэт Шипман • Книжный клуб • Главы
11.04.2017На что похоже вторжение? («Захватчики». Глава из книги)Пэт Шипман • Книжный клуб • Главы
-
 04.04.2017Заразные ракиНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №5, 2016
04.04.2017Заразные ракиНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №5, 2016
-
 21.02.2017Четвероногие слушателиИнтервью Инны Воробей с Аттилой Андиксом • Библиотека • «Троицкий вариант» №25(219), 2016
21.02.2017Четвероногие слушателиИнтервью Инны Воробей с Аттилой Андиксом • Библиотека • «Троицкий вариант» №25(219), 2016
-
 28.11.2016У собак есть эпизодическая памятьАлександр Марков • Новости науки
28.11.2016У собак есть эпизодическая памятьАлександр Марков • Новости науки
-
 14.11.2016Снуппи, первая клонированная собакаАлександра Нечаева • Картинки дня
14.11.2016Снуппи, первая клонированная собакаАлександра Нечаева • Картинки дня











Рис. 7.1. Реинтродукция высших хищников — волков — в Йеллоустоунском национальном парке породила трофические каскады во всей экосистеме. Изменения, вызванные этой реинтродукцией, подобны тем, которые произошли около 45 000 лет назад вследствие появления человека современного типа в экосистеме Евразии