Как «мыслящий тростник» изобретал современную физику?
Геннадий Горелик,
кандидат физико-математических наук наук, историк науки
«Троицкий вариант» №9(377), 2 мая 2023 года
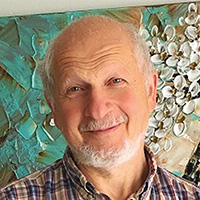
На одном развороте предыдущего выпуска ТрВ-Наука встретились рассказы о Декарте1 и Ньютоне2. Встретились, как говорится, по воле случая3, который к тому же устроил и встречу рубрик «Мыслящий тростник» и «История науки». При этом Декарт представлен лишь в рамках философской словесности, и нет ни слова о его математике и физике. В рассказе о Ньютоне — никакой философии, а только физматика и даже с формулами. Есть персонажи и «второго ряда». В одном сюжете загадочно упомянута «парность Декарта и Паскаля», в самом центре другого — пара Галилея и Ньютона.
Всё это персонажи мощного сюжета, который называют «Научной революцией». Изобретательное воображение героев этой драмы в союзе с их критически-аналитическим мышлением опиралось на «самоочевидные», хотя и не всегда высказанные ясно постулаты (кавычки означают, что постулаты эти самоочевидны бывают лишь для самого изобретателя). О важности подобных ресурсов личности сильно, хоть и не очень ясно сказал Эйнштейн: «Наши моральные взгляды, наше чувство прекрасного и религиозные инстинкты вносят свой вклад, помогая нашей мыслительной способности прийти к ее высшим достижениям». Слово «инстинкты» здесь подразумевает не биологическую природу человека, а глубины творческого сознания.
Итак, четыре персонажа и четыре поколения: Галилей (1564–1642), Декарт (1596–1650), Паскаль (1623–1662) и Ньютон (1642–1727).
В один сюжет их соединила история рождения современной физики. Ее отцом назвал Галилея сам Эйнштейн, один из инициаторов второй — квантово-релятивистской — революции. Эту роль Галилея признал и своевольный физик следующего поколения — Ричард Фейнман, которого его коллега Фримен Дайсон отнес (как и себя самого) к физикам-консерваторам4. Ну а если мнение разделяют революционер и консерватор, то стоит прислушаться.
Декарт, разумеется, читал труды Галилея и кое-что из его наследия принял (закон инерции и выражение «законы природы»), но отнюдь не всё: не принял, например, физического понятия вакуума, ключевого для Галилея и современной физики (вопреки физике Аристотеля). По типу мышления Декарт принадлежал не физике, а математике, где ему и воздвигли памятник нерукотворный в виде «декартовых координат». В математике Декарт сделал свое главное изобретение — открыл аналитическую геометрию, соединив абстрактную численно-буквенную алгебру с наглядной геометрией и преодолев философский запрет Аристотеля иметь дело с актуальной бесконечностью. То, что сейчас кажется очевидным даже школьнику, — любой отрезок прямой линии, сделанной числовой осью, состоит из актуально бесконечного числа точек — в XVII веке было новым словом науки. А вместе с этим философским прорывом явился многообещающий точно-научный инструмент. Это стало одной из причин внимания людей науки к рацпредложению Декарта «офизичить» древнегреческий эфир, вихри которого должны были двигать планеты по законам Кеплера. Оставалось лишь придумать подходящий математический механизм.
Неудивительно, что и Паскаль, и Ньютон начинали свои пути в науке с усердного изучения трудов Декарта. И не более удивительно, что, изучив теории Декарта и сопоставив мысли великого математика с известными им физическими фактами, Паскаль и Ньютон этим мыслям вольнодумно противопоставили свои собственные.

Юный Блез Паскаль. Гравюра на основе рисунка Жана Домата (ок. 1649 года)
Знаменитая фраза Декарта «Я мыслю, следовательно, существую» вполне оправдана для философствующего математика, для которого мысленные конструкции должны подчиняться лишь (математической) логике. Заслуги Паскаля и Ньютона перед математикой не меньше декартовских (теория вероятностей и матанализ), но перед физикой явно больше. Паскаль, развивая исследования Галилея (и его ученика Торричелли), экспериментально обосновал понятие вакуума и фактически показал, что Луна и планеты движутся в пустоте. А Ньютон, опираясь на результаты Галилея, разработал теорию гравитации, которая своей математически точной небесной механикой обесценила и попросту отменила проект наглядно-физической небесно-эфирной гидродинамики Декарта.
В трудах Паскаля я не нашел прямой критики этого проекта. Нашел, однако, критику совсем иного рода. Паскаль сурово относился к своему великому соотечественнику: «Не могу простить Декарту: он стремился обойтись в своей философии без Бога, но так и не обошелся, заставил Его дать мирозданию толчок, дабы привести в движение, ну а после этого Бог уже стал ему не надобен».
Какое отношение это имеет к науке? К «сухому остатку» научного знания — никакого. Но к истории жизни науки, IMHO, очень даже имеет.
Уже больше десяти лет я размышляю над загадкой рождения современной физики и ее евроцентричности. Эту загадку наиболее остро сформулировал Джозеф Нидэм (1900–1995), видный британский биохимик, ставший знаменитым историком науки. Суть вопроса состоит в том, что, возникнув в Европе XVII века, современная физика и развивалась лишь в Европе вплоть до XX века.
Об этой загадке и ее возможной разгадке я уже имел честь рассказывать читателям ТрВ (см., напр., «Просветительство и загадка современной науки»5). А общий вывод, к которому я пришел, состоит в том, что история религии и атеизма глубоко связана с историей современной науки.
Сюжет, подсказанный встречей Декарта и Ньютона на страницах ТрВ, прекрасно иллюстрирует этот вывод. Все четыре героя этого сюжета — библейские вольнодумцы. В религии они мыслили столь же свободно, как и в науке, и столь же критически воспринимали все авторитеты, кроме авторитета Библии, считая себя вправе понимать ее своим собственным умом.
При этом, как известно, атеисты были еще в библейско-античные времена. В Библии два псалма начинаются фразой: «Сказал безумный в сердце своем: Бога нет!» Неодобрение теиста-псалмопевца понять нетрудно, но слова «в сердце своем» говорят об исторической древности совершенно ненаучного атеизма. И самое первое чудо в истории науки — рождение науки в Древней Греции — можно связать, IMHO, с личным атеизмом первых философов (начиная с Фалеса), которых Аристотель назвал «физиками», т. е. «природниками», за то, что они искали первоначало-первопринцип материального мира в самой природе, не привлекая сверхъестественных сущностей (см. «C чего начинается Физика и что могло удивить Фалеса и Евклида?»6).
Не позже XVII века народная мудрость зафиксировала на латыни: Tres physici, duo athei, т. е. «Из трех физиков двое — атеисты». Такая же пропорция сохранилась до нашего времени, как показал соцопрос среди ученых США в 2009 году7. Тем любопытней поголовное библейское вольнодумство «Великолепной восьмерки» изобретателей современной физики — тех, кому удалось изобрести «абсурдно»-успешные фундаментальные понятия, давшие возможность познать устройство материального мира далеко за пределами наглядных понятий, познать глубоко, широко и плодотворно. Это Коперник, Галилей, Кеплер, Ньютон, Максвелл, Планк, Эйнштейн и Бор.
Особенно поучительны взгляды Эйнштейна и Бора, которые, получив в детстве традиционный религиозный опыт, повзрослев, не нуждались ни в церквах, ни в религиозных догмах.
Эйнштейн не раз подчеркивал, что есть моральные основания науки, но не может быть научных оснований морали. И прямо указал на источник моральных постулатов: «Высшие принципы для наших устремлений дает Еврейско-Христианская [т. е. библейская] религиозная традиция». А Бор объяснил механизм воздействия религии: «По языку религия гораздо ближе к поэзии, чем к науке. <...> Тот факт, что религии на протяжении веков говорили образами, притчами и парадоксами, означает просто, что нет иных способов охватить ту реальность, которую они подразумевают. Но это не значит, что реальность эта не подлинная» (полные цитаты и их обсуждение см. в указанных выше статьях).
Неизбежен вопрос: что именно важного для себя находили в Библии изобретатели современной физики — мощные интеллектуалы, опирающиеся на логику и объективный опыт? Один лихой атеист назвал Библию «сборником еврейских народных сказок». Даже отвергая неуважительный тон, разнообразие историй, рассказанных в десятках книг, составляющих Библию, может вызвать растерянность у человека, к Библии равнодушного.
Чтобы найти ответ, вернемся в XVII век и поищем подсказку у самих изобретателей современной науки. Религиозные взгляды библейских вольнодумцев существенно различались. Ньютон, написав на библейские темы больше страниц, чем на темы физики и математики, не признавал догматы, не имеющие, как он думал, основания в Библии, начиная с божественной природы Иисуса, но признавал его божественную миссию (в этом с ним сходились столь разные библейские вольнодумцы, как Томас Джефферсон, автор Декларации независимости, и Лев Толстой). Ньютон вовсе не обсуждал идею первородного греха, а Паскаль двумя главными истинами веры называл то, что при создании человек был уподоблен Богу и вознесен над всеми другими тварями, а после грехопадения стал подобен животным. И Паскаль был убежден, что христианская вера возвращает человеку его божественный статус.
Не прощая Декарту превращение Бога в философскую подпорку, Паскаль свой взгляд выразил страстным признанием: «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, но не Бог философов и ученых. Уверенность. Уверенность. Чувство, Радость, Мир. Бог Иисуса Христа. <...> Твой Бог будет моим Богом...»
Если же говорить о моральной основе научной жизни, то главную истину можно увидеть в других его словах: «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий...»; «Всё наше достоинство — в способности мыслить. Только мысль возносит нас...»; «Пространством Вселенная охватывает и поглощает меня как некую точку; а мыслью я охватываю всю Вселенную»; «Нам следует повиноваться разуму беспрекословнее, чем любому владыке, ибо кто перечит владыке, тот несчастен, а кто перечит разуму, тот дурак».
И Библия, и Природа, как объяснил Галилей, исходят от Бога. Библия убеждает в истинах, необходимых для спасительного служения, а Природа беспрекословно исполняет законы, установленных для нее Богом, не заботясь о том, понятны ли они нам. Чтобы мы могли их познавать, Бог наделил нас чувствами, языком и разумом. И если опыт и логика убеждают нас в результатах познания, это не следует подвергать сомнению из-за нескольких слов Библии.
Библейская вера, таким образом, не мешала свободе познавать истины о Природе, а, судя по результатам, даже помогала. И не надо думать, что сильные религиозные эмоции бывали лишь в XVII столетии. Двумя веками позже двадцатилетний Максвелл говорил: «Мой великий план — ничего не оставлять без исследования... Христианство — т. е. религия Библии — это единственная форма веры, открывающая всё для исследования». А среди его бумаг после смерти нашли молитву: «Боже Всемогущий, создавший человека по образу Твоему и сделавший его душой живой, чтобы мог он стремиться к Тебе и властвовать над Твоими творениями, научи нас исследовать дела рук Твоих, чтобы мы могли осваивать Землю нам на пользу и укреплять наш разум на службу Тебе...»
Ключевое отличие современной физики от замечательной науки древних греков состоит в том, что в геометрии Евклида и в физике Архимеда все фундаментальные понятия и постулаты были взяты из опыта как наглядные, осязаемые и самоочевидные. А фундаментальные понятия и постулаты современной физики, как подчеркивал Эйнштейн, — это «свободные изобретения человеческого духа, не выводимые логически из эмпирических данных». И, по выражению Бора, только «достаточно безумные» (crazy enough) новые понятия имеют шанс оказаться правильными — дать возможность создать теорию явлений далеко за пределами обыденного опыта, но оправданную экспериментально в опыте научном.
Для таких изобретений необходима необычно — «сверхъестественно» — смелая свобода мысли. Теория гравитации дает отличный пример. Идея всеобщей силы притяжения, действующей на расстоянии, казалась абсурдной не только Галилею, Декарту, Гюйгенсу и Лейбницу, но и самому Ньютону, который шесть лет спустя после публикации «Начал» писал: «Для меня абсурд, что гравитация присуща самой материи и что одно тело действует на другое на расстоянии через пустоту без какого-либо посредника... Гравитация должна быть вызвана каким-то агентом, действующим в соответствии с определенными законами, но является ли этот агент материальным или нематериальным, я оставил на усмотрение моих читателей».
Интуиция не обманула Ньютона. В эйнштейновской теории гравитации этот агент оказался искривляемым пространством-временем, а можно ли назвать его материальным или нематериальным, я тоже оставляю на усмотрение читателей.
Опору для столь смелой свободы мысли, какая была у Ньютона, давали глубинные духовные ресурсы его личности. То, что таким ресурсом для великолепной восьмерки изобретателей современной физики — «духовным допингом» — было библейское представление о человеке, — экспериментальный факт истории современной науки. Важно то, что это представление способно жить и действовать не только в сознании верующего человека. Оно растворилось в тех культурах, в которых Библия долгое время была главной книгой, и чтобы усвоить его, достаточно читать книги Пушкина, Толстого, Достоевского и других классиков, находивших в Библии нечто очень важное.
Для меня лично важным источником размышлений о всех этих нематериальных материях стали «Воспоминания» Андрея Сахарова. О своем религиозном чувстве он говорил лаконично, но недвусмысленно. Он считал «религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же, как и атеизм» и знал по собственному жизненному опыту, что «люди находят моральные и душевные силы и в религии, а также и не будучи верующими».
Учась смелости у моих героев и опираясь на историю науки и жизни, я готов предложить формулировку библейского представления о человеке для верующих и неверующих: каждый человек имеет право верить, что он — не тварь дрожащая, а имеет неотъемлемое право на свободу стремиться к счастью, не нарушая такое же право ближних своих.
Для ученых существенная компонента счастья — стремиться к познанию мира, в который мы пришли не по своей воле, но который мы можем сделать лучше.
1 Марков А. Игра при свечах истины // «Троицкий вариант» №8(376), 18 апреля 2023 года.
2 Горелик Г. Мог ли Галилей открыть гравитацию? // «Троицкий вариант» №8(376), 18 апреля 2023 года.
3 Точнее, в результате тесного сотрудничества случая и выпускающего редактора. — Ред.
4 Горелик Г. Free man Dyson и свободный человек Сахаров // «Троицкий вариант» №5(299), 10 марта 2020 года.
5 Горелик Г. Просветительство и загадка современной науки // «Троицкий вариант» №16(285), 13 августа 2019 года.
6 Горелик Г. С чего начинается Физика и что могло удивить Фалеса и Евклида? // «Троицкий вариант» №4(323), 23 февраля 2021 года.
7 Masci D. Scientists and Belief // Pew Research Center, 5 ноября 2009 года.
-
"Эйнштейн не раз подчеркивал, что есть моральные основания науки, но не может быть научных оснований морали".
Чем больше некий человек осведомлен в одной науке, тем меньше в других. Это и понятно – узная специализация.
Как раз-таки, у человеческой морали есть вполне определенные научные основания – с этим согласятся все биологи и эволюционисты, пишущие статьи на этом сайте.
Уже Дарвин понял, что человеческая мораль эволюционировала вместе с видом homo sapiens.
Практически вся наша мораль определена эволюцией нашего биологического вида, плюс эволюцией нашей цивилизации.
Эйнштейн и другие упомянутые в статье ученые не понимали, что и философия, и наука, ими развиваемые, есть продукты работы человеческого мозга, который эволюционировал на протяжении миллионов лет и в результате функционирует определенным образом. То, что именно христианская или иудейская религия помогали этому мозгу входить в творческое состояние – вовсе не значит, что эти религии были необходимы для развития науки, это просто случайность.. Вдохновение человеческий мозг может черпать из многих и очень разнообразных источников. Советские физики, например, черпали вдохновение из идей коммунизма, а не христианства (впрочем, эти две идеологии стоят одна другую :). Арабских ученых вдохновлял коран, а иных ученых 20-го века, быть может, фильмы Феллини.
Отношение к христианству или иудаизму как к некому абсолюту, который стоит за всеми законами вселенной, наглядно показывает слабость человеческого мозга.
С одной стороны человек создает невероятно сложную теорию пространства-времени, а с другой - реально верит, что мифы, придуманные кочевниками 3000 лет назад, являются неким абсолютом, отвергая при этом бесчисленные мифы всех других народов...
Кстати, насчет «моралей», прописанных именно в христианском и коммунистическом учениях – они оказались настолько живучи потому, что совершенно невыполнимы для человека и невозможны в человеческом обществе, являясь недостижимым идеалом. Эта недостижимость настолько очевидна всем, что любой здравомыслящий человек никогда не следовал ни заветам Христа (подставь другую щеку или брось свои деньги на дорогу), ни Марска (от каждого по способности, каждому по потребностям – хотя эту фразу не сам Маркс придумал). В христианском и коммунистическом обществе всегда врали, что следуют заветам христианства или коммунизма, а делали ровно наоборот. Таким образои, идеал оставался кристально чист и мог вдохновлять ученых и прочих творческих людей. Впрочем, вдохновляться можно чем угодно, например, обнаженной натурой.-
морали есть вполне определенные научные основания
Истинно так! Математическая формула морали очень проста: моральное поведение утилитарно на длинном горизонте; аморальное - на коротком.
(Я)-
Бесполезное утверждение, поскольку в нем не определена характеристическая длина. Например конституция США морально, поскольку работает на горизонте более двух столетий, а социализм аморален, поскольку СССР развалился через 70 лет.
Рабовладельческий строй вообще высокоморален, поскольку работал на протяжении тысячелетий.-
Горизонт в этом определении имеется в виду не только временнОй, но и пространственный, главным образом - в социальном пространстве. Выделили деньги на строительство моста, чтобы вся страна резко сократила в будущем транспортные издержки. А ты эти деньги украл. В твоём локальном социальном пространстве ты добился большого успеха, да. Но в масштабах страны - нет. Вот хороший пример аморального поведения.
-
-
-
Дело, по-видимому, не в Библии как таковой, а иудейской и впоследствии христианской традиции аналитического и критического богословия, на территории Европы породившего классическую философию и университеты. Там где не было традиции критического анализа Библии или родственных ей священных текстов, не появилось и университетско-академической науки до тех пор, пока она не стала повсеместно утилитарной производительной силой.


_200.jpg)




_390.jpg)















Геннадий Горелик