Керигмахела
На этой иллюстрации, взятой из недавней статьи в Nature Communications, изображена керигмахела (Kerygmachela) — яркий представитель кембрийской фауны.
Широко известно, что кембрийский период был в истории многоклеточных животных эпохой настоящего взрыва новых форм. Палеонтологи, приступившие в XX веке к изучению фауны раннего кембрия, встретили там множество удивительных живых существ — иногда близких к современным группам животных, а иногда и настолько необычных, что их не удавалось без серьезных натяжек отнести к какому бы то ни было современному типу. Бывали случаи, когда эта необычность даже преувеличивалась. Например, галлюцигению вначале сгоряча проинтерпретировали как существо «с семью парами ножек снизу и семью гибкими щупальцами сверху, каждое из которых, по-видимому, завершалось ротовым отверстием» — именно так она описана в замечательной научно-популярной книге Дэвида Аттенборо «Жизнь на Земле». Дальнейшие исследования показали, что галлюцигения — вовсе не такое уж невероятное чудовище. Просто при первом описании ее спинную сторону перепутали с брюшной, приняв на отпечатке гибкие ноги за непарные щупальца, а находившиеся на спине шипы — наоборот, за ноги (см. Палеонтологи выяснили, как была устроена голова галлюцигении, «Элементы», 26.06.2015). Сейчас галлюцигению удалось изучить детально, и стало ясно, что, несмотря на ее вполне реальное внешнее своебразие, никаких мистических тайн она в себе не содержит: это всего лишь родич современных онихофор.
Палеонтологическая «карьера» керигмахелы не такая захватывающая. Ошибками и сенсационными переописаниями она не изобилует. Что, впрочем, не отменяет уникальности этого животного, особенно если мерить его мерками современного мира. Керигмахела была обнаружена в начале 1990-х годов в гренландском местонахождении Сириус Пассет (Sirius Passet) и сразу попала в руки прекрасного специалиста по кембрийским беспозвоночным — Грэма Бадда (Graham Budd), заслуженная известность которого с тех пор только растет. Именно он дал керигмахеле научное название, составленное из греческих слов κήρυγμα — «призыв», «провозглашение» — и χηλή, обозначающего копыто, клешню или коготь. По словам Бадда, это название керигмахела получила в честь ее великолепных передних конечностей, усаженных выростами и шипами. В оригинале он охарактеризовал эти конечности прилагательным flamboyant, означающим «яркий», «вычурный» или — наиболее буквально — «пламенеющий», как в названии архитектурного стиля пламенеющая готика или старинных мечей с пламенеющим лезвием.
Так было образовано название рода. Но поскольку биологическая номенклатура — бинарная, то керигмахеле следовало дать еще и видовое название, которое Бадд произвел от фамилии Сёрена Кьеркегора — великого датского философа, основателя экзистенциализма. Он объяснил это тем, что Кьеркегор был постоянным жителем Копенгагена — города, где хранится типовой экземпляр. В соответствии с номенклатурными правилами, полное научное название керигмахелы выглядит теперь следующим образом: Kerygmachela kierkegaardi Budd, 1993. После названий рода и вида, как положено, следует фамилия первооткрывателя и год, когда было опубликовано первое описание.
Итак, что же керигмахела собой представляет? Это морское существо, отнюдь не гигантское, но и не слишком мелкое: длина типового экземпляра составляет 17,5 сантиметров. Тело членистое. Есть достаточно четко выраженная голова, несущая пару тех самых роскошных «пламенеющих» передних конечностей. Они похожи на усики насекомых или ракообразных, но сильно ветвятся. Туловище керигмахелы состоит из одиннадцати сегментов, на каждом из которых торчат в стороны крупные плоские парные выросты, похожие на лепестки или на наружные жабры. Функцию жабр они, скорее всего, и выполняли — что, впрочем, не мешало им заодно создавать подъемную силу и работать плавательными лопастями. Кроме того, на каждом сегменте у керигмахелы находится пара конечностей, предназначенных для хождения. Они представляют собой короткие выросты, подвижные, но без всякого намека на те сложные экзоскелетные сочленения, которым обязан своим названием тип членистоногих. Одним словом, ножки у керигмахелы устроены примерно так же, как у доживших до современности онихофор.
Рот у керигмахелы, как и следовало ожидать, расположен вблизи переднего конца тела (раньше считалось, что точно на переднем конце, но на самом деле чуть внизу — для специалистов по членистоногим и их древним родственникам это важно). Он довольно маленький, окруженный со всех сторон мелкими хитиновыми зубчиками. Никаких челюстей у керигмахелы нет. Это означает, что хищником она не была, а подбирала какие-то мелкие и пассивные пищевые объекты. Что касается передних конечностей, то они у керигмахелы хотя и длинные, но довольно слабые, и предназначались скорее для ощупывания окружающего пространства, чем для удержания добычи.
Глаза у керигмахелы были маленькие и простые. Никаких огромных сложных фасеточных глаз, характерных для многих современных членистоногих (и для некоторых их древних родственников тоже), у нее возникнуть не успело.
На заднем конце тела у керигмахелы находится длинный членистый хвостовой придаток, который был сначала описан как парный, но свежее исследование более полного материала показало, что на самом деле он, скорее всего, единственный и расположен точно посредине. Имеет ли это хоть какое-то принципиальное значение — пока неизвестно, но палеонтологи не были бы палеонтологами, если бы оставляли без внимания подобные детали.

Что же это за существо такое? Если бы современный человек, идя по берегу Белого, Северного или любого другого моря, увидел на мелководье плывущую керигмахелу, он — при условии, конечно, некоторой компетентности в биологии — скорее всего, принял бы ее за какое-то очень странное ракообразное. Однако, чтобы развеять это впечатление, было бы достаточно поймать керигмахелу и внимательно (лучше всего под бинокуляром) рассмотреть ее с брюшной стороны. Во-первых, у керигмахелы нет челюстей — значит, она не ракообразное. А во-вторых, у нее нет членистых ходильных ног, и это должно означать, что она вообще не членистоногое.
По современным представлениям керигмахела относится к одной из эволюционных ветвей, объединяемых понятием «стволовые эуартроподы» (см. Палеонтологи уточнили время появления первых членистоногих, «Элементы», 23.08.2018). Говоря попросту, это эволюционный уровень, предшествующий настоящим членистоногим.
В статье, где Грэм Бадд привел первое описание керигмахелы, есть один момент, примечательный с точки зрения истории науки (или «археологии знания», если воспользоваться выражением Мишеля Фуко). Завершая описание, Бадд демонстрирует гипотетическое эволюционное древо членистоногих и их ближайших родственников, которое выглядит следующим образом:

Эволюционное древо членистоногих из статьи Бадда (в несколько упрощенном виде). Opabinia, Anomalocaris — «стволовые эуартроподы» (см. Палеонтологи уточнили время появления первых членистоногих, «Элементы», 23.08.2018), Hallucigenia и Peripatus — онихофоры, Myriapoda — многоножки, Xenusion — загадочное животное, предположительно близкое к общим предкам членистоногих и онихофор. Изображение из статьи G. E. Budd, 1993. A Cambrian gilled lobopod from Greenland
Как видим, членистоногие здесь распадаются на две группы, связанные только через гораздо более древних общих предков. Это означает, что членистоногие — вовсе не единый тип. Откуда взялось такое мнение?
Напомним, что речь идет о статье, опубликованной в 1993 году. Бадд здесь совсем не оригинальничал — он следовал гипотезе дифилии (двойного происхождения) членистоногих, которая именно в тот момент была научным мейнстримом. Самым авторитетным сторонником этой гипотезы, а в большой мере и ее автором, была английская исследовательница Сидни Мэнтон (Sidnie Milana Manton), признанный крупнейший специалист по членистоногим и их эволюции. Сравнивая челюстной аппарат ракообразных и насекомых, Мэнтон пришла к выводу, что он устроен в этих группах слишком по-разному, чтобы предполагать их общее происхождение от предка, уже имевшего челюсти. Значит, этот общий предок был намного примитивнее. К тому же у разных членистоногих по-разному устроены конечности: у трилобитов, ракообразных и мечехвостов они двуветвистые (имеют жаберную ветвь), а у многоножек и насекомых — одноветвистые, чисто ходильные. В результате Мэнтон объединила многоножек и насекомых с онихофорами (которые вообще членистоногими не являются) в самостоятельный тип, получивший название Uniramia — одноветвистые. В противоположность одноветвистым, группа, в которую вошли ракообразные, трилобиты, мечехвосты и паукообразные, получила название Schizoramia. Согласно теории Мэнтон, Uniramia и Schizoramia — это два эволюционных ствола, которые достигли уровня организации членистоногих совершенно независимо друг от друга. Первые (одноветвистые) очень рано вышли на сушу, и в членистоногих они превратились, будучи исходно наземными организмами, а вторые (двуветвистые) долго эволюционировали в воде, где многие из них до сих пор и пребывают. Сторонники этой теории успели получить типично английское прозвище «мэнтонианцев».
В семидесятых и восьмидесятых годах XX века теория Мэнтон была очень популярна. Например, именно согласно взглядам «мэнтонианцев» излагается эволюция и система членистоногих в замечательной книге британских авторов «Беспозвоночные: новый обобщенный подход», русское издание которой вышло в 1992 году. Бадд просто последовал этому, предположив близость керигмахелы к эволюционному стволу «двуветвистых» (но не «одноветвистых»).
Однако судьба теории Мэнтон оказалась печальной. То, что против нее возникли чисто палеонтологические возражения, еще можно было бы как-то пережить. Но как раз в конце XX века сложилась и стала набирать силу молекулярная филогенетика, позволяющая в большинстве случаев проводить вполне объективную и независимую проверку гипотез о родственных связях живых организмов. Если бы онихофоры «вклинивались» в эволюционное древо членистоногих, разбивая его надвое, молекулярная филогенетика сразу бы это засекла. Но нет. На молекулярном древе членистоногие однозначно оказались единой группой, а онихофоры — ветвью, внешней по отношению к ним, в полном соответствии с классической точкой зрения и вопреки мнению «мэнтонианцев». И вот с этим контраргументом сделать нельзя уже ничего. На сегодняшний день мэнтоновская концепция дифилии членистоногих является хорошим примером «вымершей» гипотезы, которую больше никто не поддерживает.
Максу Планку приписывается такое высказывание: «ученые не меняют своих взглядов — они просто вымирают, а следующее поколение потом воспринимает новые идеи со студенческой скамьи». Вопреки этому мнению (которое, возможно, и было в основном верно лет сто назад), современное научное сообщество адаптируется к смене концепций очень быстро. Можно видеть, что принципиальное изменение представлений о происхождении членистоногих произошло при участии ныне живущего и продолжающего активно работать поколения ученых: они столкнулись с новыми фактами, от которых невозможно было отмахнуться, и просто вынуждены были скорректировать свои теоретические взгляды. И продолжают это делать. Деваться некуда: слишком быстро в современной науке идет накопление фактического материала. К палеонтологии, которая сейчас к тому же очень активно взаимодействует с другими дисциплинами, это уж точно относится.
Рисунок Ребекки Гелернтер (Rebecca Gelernter), опубликованный в статье T.-Y. S. Park et al., 2018. Brain and eyes of Kerygmachela reveal protocerebral ancestry of the panarthropod head.
Сергей Ястребов
-
"А во-вторых, у нее нет членистых ходильных ног, и это должно означать, что она вообще не членистоногое".
Ну да, конечно... Артемия и личинки мух - это не членистоногие...-
Ну Вы еще пятиусток мне напомните :)
UPD. Посмотрел на контекст (я сам уже работаю над другим и про эту статью забыл). Ну да, встретив ее в современности, можно бы, пожалуй, подумать, что это какое-то странное ракообразное, потерявшее ноги вторично. Хотя на самом деле - все равно нельзя. Уже из-за ротового аппарата.
-
-
Ну, пятиустки мимо не плавают/ползают...в отличие от жаброногов и личинок насекомых. Просто не надо уж так категорично полагаться на внешние признаки. Могу напомнить еще карпоедов. Вполне себе плавают; членистость ног у них еще кое-как заметна, но вот пойди пойми, где у них челюсти/мандибулы. И если сохранился бы такой отпечаток, а современные карпоеды были бы неизвестны, не отнесли ли бы его палеонтологи к "стволовым" артроподам?
-
Тут я с Вами и не буду спорить.
Единственное, что отмечу - словосочетание "стволовые артроподы" я бы брал в кавычки целиком. Потому что это НЕ артроподы. Не знаю, плохо это или хорошо, но таково современное словоупотребление: например, остеострак свободно называют "стволовыми челюстноротыми", хотя они бесчелюстные.
-
Последние новости



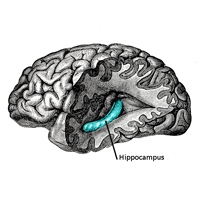











Реконструкции керигмахелы, сделанные ее первооткрывателем Грэмом Баддом. Вверху — тело керигмахелы в разрезе, видны жаброподобные лопасти и ходильные ноги; длина масштабного отрезка — 20 мм. Внизу — художественная реконструкция, изображающая, как предположительно выглядела керигмахела в естественной среде обитания. Иллюстрации из статьи G. E. Budd, 1998. The morphology and phylogenetic significance of Kerygmachela kierkegaardi Budd (Buen Formation, Lower Cambrian, N Greenland)