«Дикая птица и культурный человек». Глава из книги
Глава 5.4. Легенды, путаницы и заблуждения
Раньше утверждалось, что лежание на гагачьем пуху подвергает человека риску заболевания эпилепсией.
Джон Филлипс

Самое раннее письменное свидетельство отношений гаги и человека — легенда о святом Кутберте, реальные основания которой весьма сомнительны. Признаться, начиная работу над этой книгой, я наивно полагала, что эта легенда окажется не только первым, но и последним человеческим заблуждением, касающимся гаг. Не тут-то было. Если у вас хватило терпения прочесть все предыдущие четыре с лишним сотни страниц, то вы убедились, что вся история взаимодействия людей с гагами просто напичкана разнообразными заблуждениями, с которыми мы встречались почти в каждой главе.
Если верить всему, что за несколько веков успели напридумывать люди, то наша гага из обычной утки превращается в какую-то сказочную птицу Рух, которая гнездится на неприступных скалах, яиц может наложить целые горы, летает с птенцами на спине и только что не разговаривает человеческим голосом. Многие из этих небылиц мы обсуждали в главе об эволюции научных представлений о гаге. Наука постепенно избавилась от своих заблуждений, и к ним можно было бы относиться как к милым историческим анекдотам, если бы и сегодня многие из них не продолжали то и дело появляться в популярных рассказах о гаге.
В основе этого лежит, конечно, обычная безграмотность. Познания о гагах у большинства людей сводятся к штампу «гага — северная птица» (который в русскоязычном пространстве является также зачином матерной частушки). На этом фоне во все времена процветали самые невероятные истории о биологии гаг. Живучесть этих историй хорошо иллюстрирует давно известную на бытовом уровне, а недавно подтверждённую и вполне научно, истину о том, что ложная информация распространяется гораздо шире и быстрее и закрепляется в сознании гораздо лучше, чем информация правдивая (Vosoughi et al., 2018).
Сила заблуждений
Даже опытные полярники умудрялись иногда писать о гаге нечто совершенно несусветное. Так, если верить Отто Свердрупу, норвежскому полярному капитану и исследователю, самец гаги охраняет во время насиживания гнездо «...весьма отважно, особенно от главного разорителя гнезда, ворона. Он избавляется от ворона, утаскивая его в море и ныряя с ним пока тот не умрёт, и часто долго после этого» (Sverdrup, 1904).
Не могу даже представить, как возникла эта история про гагуна-терминатора, больше ни у одного автора мне её встречать не довелось. Но большинство небылиц повторяются многократно на протяжении столетий, и все они связаны с сезоном гнездования — тем временем, когда люди ближе всего соприкасались с гагами. Однако всё же не настолько близко, чтобы разобраться во всех тонкостях гагачьей жизни. Своё незнание люди с успехом восполняли фантазиями, в которые от частого повторения начинали искреннее верить.
Десятки источников (включая и знаменитого Брема) на разные лады рассказывают о том, что если у самки гаги не хватает пуха для выстилки гнезда, то она выщипывает недостающий пух из самца — этим, в частности, объясняют иногда встречающийся в гагачьих гнёздах белый пух. Замечательно, что ни один из авторов этой версии никогда своими глазами не наблюдал, как самка ощипывает самца, что не мешает им воспроизводить её вновь и вновь, сочиняя картины настоящей любовной драмы.
«Гнездо устраивается вот каким образом. Нежная супруга, почувствовав неотложную необходимость гнезда, начинает понемногу готовить его довольно оригинальным способом: во время любовных утех она ласково щекочет брюшко у самца-супруга и выщипывает из-под пера пух, сколько ей нужно для мягкой тёплой колыбельки — а потом... облетели цветы, догорели огни... отставка и... ощипанное брюхо!... Стонет белый красавец... «Это он её всё зовёт, — разъясняет всезнающий монах, — только нет, шалишь, не придёт!» (Пинегин, 1909).
Белый пух в гагачьем гнезде не может принадлежать самцу по множеству причин, хотя достаточно было бы и любой из них. Белый пух встречается в гнёздах там, где самцы физически отсутствуют во время приготовления гнезда. Гагачий клюв физически не приспособлен для выщипывания пуха, который у самца держится очень прочно. Наконец, то самое «брюшко» самца, с которого в приведённой цитате самка добывает белый пух, имеет радикально чёрный цвет.
На сказочность этой версии учёные указывали не раз, начиная, как минимум, с конца XIX века. «История о том, что селезень якобы даёт пух после того, как он кончается у самки — фантазия» (Newton1, 1893–1896). «Указания многих авторов на то, что для второго и третьего гнезда гага берёт пух из груди самца..., относятся к области сказок» (Формозов, 1930). И тем не менее их слова остаются неуслышанными, а легенда о пухе, добытом из самца, живёт веками, и в неё до сих пор верят даже некоторые биологи.
Неистребимо стремление людей приписывать животным человеческие чувства и интерпретировать их поведение по аналогии с человеческими действиями.
В середине XVIII века норвежский епископ Понтоппидан рассказывал, что самец гаги крыльями избивает самку в наказание за то, что она не уберегла кладку (Pontoppidan, 1755).
В конце ХIХ века русский морской офицер, князь Леонид Алексеевич Ухтомский, побывавший в экспедиции на Новой Земле и оставивший в целом вполне корректное описание жизни тамошних гаг, сообщает, что «ежели же из ея гнезда несколько раз сряду оберут пух, то говорят, что самка, доведённая этим до отчаяния, убивается на смерть» (Ухтомский, 1883).
И уже в начале XX века русский биолог А. Н. Формозов слышит на Баренцевом море рассказы поморов о том, что яйца, которые расклёвывают в гагачьем гнезде хищники, в то время как спугнутая человеком самка покинула гнездо, расклевала «с горя» сама гага. «Но уже простой осмотр пробоин на скорлупах указывает на чаячью, а не гагачью форму разбившего их клюва», — трогательно указывает Формозов на противоречащий этой абсурдной версии факт (Формозов, 1930).
В середине XVIII века мэр Гамбурга и большой любитель Исландии Йохан Андерсон публикует совершенно сказочную историю о громадном количестве яиц у гаги и о том, что самку можно простимулировать, воткнув палочку в середину гнезда — птица будет нестись, пока не завалит палочку яйцами целиком (Phillips, 1926).
До наших дней эта остроумная версия не дожила, но вот представления о том, что яиц у гаги может быть очень много, бытуют и поныне. Они основаны на встречах гнёзд со смешанными кладками двух самок, а также на том, что с одной самкой иногда можно наблюдать много птенцов. То, что гаги просто принимают в свой выводок чужих птенцов, спонтанным наблюдателям в голову не приходит: много птенцов — значит, было много яиц!
Даже биологи и практики гагачьих хозяйств не застрахованы от странных предубеждений. «Выбирая пух из гнезда, отнюдь нельзя брать яйца в руки и менять их расположение, в последнем случае можно с уверенностью сказать, что гага гнездо бросит», — писал один из первых исследователей гаг в СССР (Филиппов, 1933). А некоторые гагачьи фермеры Исландии совершенно серьёзно рассказывали мне, что работать с гнездом надо только в перчатках, потому что иначе на яйцах останется запах человека, который может отпугнуть самку...
Вообще представление о том, что если брать в руки яйца или птенцов, то самка из-за этого бросит гнездо, очень широко распространено. И хотя все орнитологи знают, что это не так, рациональное зерно в таком поверье есть. Человек невольно может привлечь к гнезду внимание хищников: пернатых, которые следят за его действиями сверху, и наземных, которые могут использовать оставленный человеком запах для поиска скрытно расположенных гнёзд. Так что без специальных знаний и без необходимости птичьи гнёзда действительно лучше не трогать.
«Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок»
Любая из небылиц, какой бы невероятной она ни казалась, никогда не бывает плодом чистой фантазии. Она всегда цепляет какой-то краешек истины, только неправильно её интерпретирует. Если внимательно всмотреться в небылицу, то иногда она даже может привести к новым знаниям.
Совершенно сказочными кажутся знатокам гаг рассказы о том, что самка летит от гнезда к морю, посадив гагачат на спину (Pontoppidan, 1755), или о том, что в первый раз самка завозит птенцов в море на спине, а потом ныряет, чтобы скинуть их и таким образом приучить к самостоятельности (Pennant, 1784, 1787). Но людям, в жизни гаг несведущим, именно такие истории очень нравятся, и они их с удовольствием пересказывают.
«Как только утята вылезают из скорлупы, мать увлекает их к морю, сажает себе на спину, немного проплывает вместе с ними и, отплыв на небольшое расстояние от берега, внезапно ныряет, оставляя их плавать на поверхности, вынуждая их таким образом быть самостоятельными» (Goldsmith2, 1806)
Откуда возникли эти сюжеты, кроме стремления объяснить, как попадают птенцы к морю, если гнездо расположено далеко от берега? Признаться, происхождение образа гаги с птенцами на спине долго оставалось для меня загадкой.
Для любого орнитолога обычна картина чомги или лебедя с птенцами на спине. Но гага?! Поначалу у меня был соблазн отнести это к разряду чистых фантазий, потому что ни я сама, ни мои коллеги, работавшие с гагами несколько десятилетий, никогда не видели, чтобы птенцы гаги сидели на спине у самки. Но упоминания гагачат на спине у самки встречались в литературе слишком часто, чтобы можно было спокойно счесть их чистым вымыслом. Я начала искать и, спасибо интернету, нашла и фотографию, и видеосъемку3, подтверждающие это явление. Действительно, гагачата оказывались на спине у матери не только во время отдыха на суше, но и — что было принять труднее всего, — на воде.
Почему подобные сцены, согласно документальным свидетельствам, наблюдали в Исландии, Норвегии и Германии, но не в России? Пока я пыталась найти ответ на этот вопрос, в архивах Кандалакшского заповедника отыскались сведения о подобных наблюдениях и в России!

Птенец гаги на спине у плывущей самки. Фото: Bård Olsen.
Из наблюдений на Баренцевом море: «По дороге видели выводок гагачат с гагой во главе. Птенцы (4 шт.) забрались на спину матери» (Модестов, 1939).
Среди бумаг покойного орнитолога Кандалакшского заповедника А. С. Корякина, изучавшего поведение птенцов гаги в выводках на Белом море, нашёлся выразительный рисунок соответствующей сцены, явно сделанный с натуры.

Птенец гаги на спине у плывущей самки. Рисунок А. С. Корякина. Научный архив Кандалакшского заповедника.
Таким образом, не осталось никаких сомнений, что гаги действительно возят птенцов на спине, только явление это, похоже, очень редкое, а потому наблюдать его удалось далеко не всем исследователям. Но задуматься о самом существовании подобного явления заставили истории XVIII века, казавшиеся поначалу чистейшим вымыслом.
Путаница-рекордсмен
Рассказы о том, что гаги строят гнёзда на отвесных скалах, а люди собирают их яйца и пух, спускаясь к гнёздам на верёвках с риском для жизни, — рекордсмен-долгожитель среди гагачьих заблуждений. Самый ранний из известных мне источников этих сведений появился в XVII веке4, и они уверенно продержались в строю как минимум до начала XX века, воспроизводимые бесчисленным множеством авторов.
«Мягкий гагачий пух, которыми набивают подушки, собран был, может быть с опасностью для жизни, отважными рыболовами на утёсах скалистых берегов Норвегии, Исландии или Гренландии» (Вагнер, 1863).
«Невдалеке от Айновых островов есть голый утёс, где гаги (Somateria mollissima) плодились и множились бесчисленными массами... На крайней линии его сидел ряд гагок, не прерывавшийся нигде и уходивший, как казалось, в бесконечность. Оттуда-то и доносились эти резкие, точно плачущие крики... Спустя немного — малый уже всходил на карниз. Но тут ожидала его новая беда. Гагки окружили его тучей. По мере того, как он подвигался вперёд, туча эта росла и росла. Я знал, что карниз в некоторых местах образует крутые спуски, а кое-где наклонён вниз так, что сажени на три, на четыре идёт узкий скат. Я знал, что гаги хлещут в глаза ему крыльями, бьются об него. Я знал, что сквозь эту тучу он не увидит и не различит ничего. Но его самого уже не видел. Вместо человека шло сплошное облако птиц, всё усиливавших свои крики. По тому, как подвигалась вперёд эта туча, скорее или медленнее, я заключал, быстро или тихо идёт он...» (Немирович-Данченко, 1877)
«Гаги собираются стаями в ущельях самых неприступных скал, омываемых морем. Они садятся на таких крутизнах, куда человеку, казалось бы, невозможно даже и забраться. Там они вьют гнёзда, устилая их мягким, нежным пухом, который выщипывают у себя на груди. Пух этот очень тёпел и ценится в продаже очень дорого.
Гагачий промысел сопряжён с большими трудностями и опасностями. Чтобы добыть из гнезда дорогой пух, смельчаки-охотники взбираются на неприступные скалы и крутизны, привязывают себя верёвкой за выступ скалы и осторожно спускаются по голой скале. Вися над пропастью, выбирают охотники из гнезда гагачий пух и кладут в корзину, которая прикрепляется к поясу. Бывают, разумеется, и несчастные случаи: оступится какой-нибудь охотник, или верёвка оборвётся, тогда уж прощай жизнь — на смерть разобьётся бедняк об острыя скалы!» (Соколов, 1904 и, заметим, аж пятое издание).
«В промышленном отношении между птицами первое место занимает гага. Для предохранения своих яиц от холода она накрывает их пухом и перьями, выщипанными из груди и из-под крыльев. Добывание этого пуха чрезвычайно трудно, потому что гага вьёт свои гнёзда в ущельях горы на неприступных скалах, так что промышленники должны иной раз спускаться на верёвках с громадных утёсов, подымающихся отвесно над морскою пучиной» (Тимковский, 1910).

Добывание гагачьего пуха. Иллюстрация из книги Л. А. Ухтомского, 1883.
Я привожу примеры из русскоязычной литературы только потому, что мне легче их подобрать. Но заблуждение о гнездящихся на скалах гагах было вполне международным. Побывавшая в Исландии английская путешественница, явно наслышанная о легендарных опасностях при сборе гагачьего пуха, своими глазами видит, что гаги гнездятся иначе, но считает причиной этого только отсутствие подходящих скал.
«Я не была свидетелем опасной операции по сбору пуха между расселинами скал и с неприступных обрывов, с которых людей опускают или к которым поднимают на верёвках с опасностью для жизни. В районе Рейкьявика просто нет таких опасных мест» (Pfeiffer, 1852).
Как же получилось, что гага превратилась в орла и взлетела на скалы, а мирное занятие по сбору гагачьего пуха, в котором сплошь и рядом принимают участие малые дети и почтенные старики, стало экстремальным видом спорта? Причины всё те же: отсутствие знаний, привычки проверять информацию и склонность к ярким эффектным сообщениям. Поговорка «Слышал звон, да не знает, где он» отлично подходит к этой истории. Среди птичьих промыслов действительно есть такие, которые связаны со скалами, верёвками и опасностями, только вот относятся они не к гаге, а совсем к другим птицам.
«В литературе по северу отдельные указания об использовании гагачьих гнёзд встречаются часто, но большинство из них, повторяя друг друга, неверно рисуют самую обстановку промысла. Собирание пуха описывается как занятие, сопряжённое с необычайными опасностями. Промышленникам, якобы, приходится спускаться на верёвках с отвесных скал, рискуя разбиться об острые камни при падении. В действительности этого почти не бывает: ... гага предпочитает гнездиться на пологих берегах и круч избегает. В описаниях такого типа отразилась, с одной стороны, обычная склонность пострашнее изображать всё то, что лежит за Полярным кругом, с другой — отголоски правильных представлений о трудностях, связанных с добыванием на пахтах5 яиц кайр, гагарок и моевок» (Формозов, 1930).
Я думаю, что был ещё один фактор, который не только способствовал рождению легенды об опасностях гагачьего промысла, но и обусловил упорное нежелание человечества с этой легендой расстаться. Этот фактор — стремление людей мифологизировать всё редкое и дорогое. За драгоценными камнями тянется шлейф легенд об их магических свойствах и совершённых ради них кровавых преступлениях, в старом замке непременно должно жить привидение, а гагачий пух — это невероятное явление природы, за владение которым люди платят сумасшедшие деньги — просто валяется под ногами как грязь, и всякий может его поднять? Вот так просто?! Ну, нет! Гораздо интереснее для всех и более лестно для обладателей гагачьих одеял представлять отвесные скалы, бушующее море и рискующих жизнью удальцов. И что рядом с этим объяснения каких-то зануд-учёных?
«Распространено совершенно не соответствующее действительности представление, что сборщики гагачьего пуха подвергаются большим и даже смертельным опасностям. Автору статьи удалось побывать на гагачьих гнездовьях Кольского полуострова, Новой Земли, островов Белого моря, и нигде он не наблюдал тех опасных для жизни условий сбора гагачьего пуха, о которых упоминают авторы некоторых статей.
Дело в том, что эти авторы пишут о гаге понаслышке и путают при этом биологию трёх птиц, названия которых по созвучию довольно близки: гагу, гагару (птицу рода Colymbus, подразделяющегося на несколько видов) и кайру (род Uria), или, как её называют наши промышленники, «гагарку».
Сбор яиц кайры, образующей так называемые «птичьи базары» и гнездящейся на почти отвесных, иногда даже нависающих над водой скалистых обрывах, действительно является опасным промыслом, требующим от промышленника большой силы, находчивости и мужества. Гага обыкновенная, как правило, гнездится на небольших островках с пологими берегами, обеспечивающими лёгкий спуск выведшихся птенцов на воду. Сбор гагачьего пуха никакой опасности для сборщика не представляет и часто производится женщинами и даже детьми» (Дубровский, 1939).
Гага-гагара-кайра-гагарка
Несмотря на объяснения профессионалов, в популярной литературе царит немыслимая путаница между четырьмя разными птицами: гагой, гагарой, гагаркой и кайрой. Особенно пышно эта путаница расцвела в русском языке, благодаря созвучию названий этих птиц.
Давайте разберёмся, с кем и почему путают гагу. Вот они, участники собирательного образа гаги в популярной литературе6.
|
рус. Гагара лат. Gavia англ. Diver, Loon |
рус. Гагарка лат. Alca англ. Razorbill |
рус. Кайра лат. Uria англ. Guillemot, Murre |
| Что это за птицы и как они живут? | ||
| Водоплавающие птицы из отряда Гагарообразных (Gaviiformes), семейства гагаровых (Gaviidae). В мировой фауне всего 5 видов. В гнездовое время населяют пресные озера в тундре и северной тайге. Питаются рыбой. Хорошо плавают и ныряют, но по земле ходить не могут, способны лишь ползать на брюхе. Гнездо из собранной со дна озера водной растительности устраивают у самой воды. В кладке 1–2 тёмно-зелёных с чёрными пятнами яйца. Оба родителя выкармливают птенцов, принося им рыбу в клюве. Зиму проводят в море. |
Исключительно морские птицы из отряда Ржанкообразных (Charadriiformes), семейства чистиковых (Alcidae). Обитают преимущественно на севере. Хорошо плавают и глубоко ныряют, перемещаясь под водой при помощи крыльев. Питаются преимущественно рыбой. На суше держатся вертикально, чем напоминают пингвинов. В мировой фауне всего один вид гагарок и два вида кайр. И кайры, и гагарки — типичные обитатели птичьих базаров. И кайры, и гагарки откладывают только одно яйцо. Яйца кремового, голубого или зелёного цвета с густым чёрным крапом и пятнами. Яйца имеют грушевидную форму, которая препятствует случайному скатыванию со скал. Родители долгое время выкармливают птенцов рыбой. Наполовину подросшие птенцы спрыгивают со скал вниз, после чего отправляются в путешествие по морю, сопровождаемые одним из родителей. |
|
| Гагарки чаще гнездятся в расщелинах скал и среди валунов. | Кайры обычно гнездятся на морских скалистых обрывах, в том числе на узких скальных карнизах. | |
| Как их используют люди? | ||
| Шкурки гагар северные народы использовали для изготовления тёплой одежды. | Люди собирают яйца для еды, но реже, чем яйца кайр, потому что собирать их не так удобно: гагарки чаще гнездятся в нишах среди валунов. | Яйца гнездящихся на скальных карнизах кайр люди повсеместно и в больших количествах собирают для еды. |
| Что у них общего с гагой? | ||
| Живёт на севере. Больше ничего, кроме четырёх первых букв названия. | Живёт на севере. Больше ничего, кроме четырёх первых букв названия. | Живёт на севере. Больше ничего общего с гагой не имеет. |
Реконструировать всю историю возникновения этой путаницы нет уже никакой возможности, но понятно, что у неё было сразу несколько источников.
Первый — плохое знание людьми птиц в целом. «В этих северных широтах я не встречал ни одного разбирающегося в птицах местного жителя; единственные им известные были те, которые годились в пищу» (Pearson7, 1904).
Второй — привычный для нас сегодня порядок вещей, когда одно конкретное название обозначает повсеместно одну и только одну конкретную птицу, появился совсем недавно. Даже в начале XX века и даже в научном мире названия птиц ещё не были окончательно устоявшимися. Тем более не было устоявшихся птичьих названий в языке народном. Совершенно обычной была ситуация, когда для одного вида существовало много разных названий-синонимов, причём в одних местностях чаще употреблялись одни, а в других — другие. И наоборот: одним и тем же именем в разных местах могли называть совсем разных птиц. И вся эта неразбериха была скорее нормой, чем исключением.
Так, кайр (Uria aalge, Uria lomvia) на севере принято было называть «гагарками», несмотря на то, что гагарки (Alca torda) здесь тоже встречаются; в итоге этих птиц просто не различают. Крупных чаек (Larus) и на Севере, и на Юге называют «бакланами» (Phalacrocorax), самих же бакланов называют очень по-разному: и «морскими глухарями», и «морскими воронами», а кое-где даже «гагами». Обыкновенных гаг (Somateria mollissima) на Чукотке называют «баулами», а гаг-гребенушек (Somateria spectabilis) в некоторых районах называют «морской турпан». Список можно продолжать ещё долго...
Третий источник путаницы состоит в том, что основная часть популярных публикаций о северных птицах принадлежала авторам, которые сами на Севере, а тем более на птичьих гнездовьях, никогда не бывали и лишь пересказывали сведения из других источников, часто дошедшие до них в уже запутанном виде. «В один час мореходы наши промыслили до двухсот штук гагар, которых пух, известный под именем гагачьего, дорого ценится, а мясо идёт от нужды на жаркое» (Некрасов, 1983).
Познания среднерусского городского жителя, поэта Николая Некрасова8 в северных птицах ещё могли вызывать сомнения, но сведения, полученные от авторитетного этнографа Сергея Максимова9, воспринимались как совершенная истина, их до сих пор часто используют в качестве источника исторической информации о птицах. Между тем, Максимов часто без всякой проверки приводил услышанные им в путешествиях рассказы, авторы которых обращались с названиями птиц крайне произвольно. Вот, например, рассказ об охоте на острове Колгуев в Баренцевом море, где сам Максимов никогда не был.

Странная птица с подписью «Гага». Иллюстрация из книги «Описание Северного края», 1881 г.
«...На наш Колгуев ещё груманские10 гаги прилетают, и зовём мы их турпанами (нырок, синьга). Это — не то тебе утка морская (каумбах11), не то настоящая гагка12, а прилетает её на Колгуев несметное тоже число... Сидят они тут, не кричат в кругах, а выгонишь их в гору к сетям — бегут не долго, сейчас отдохнуть сядут, потому больно жирны и пахнут. Тут их не стреляй, а то все в растёку ударятся, а гони опять: безотменно в сети попадут, ингодь тысяч пять, а не то и все пятнадцать за один раз. Щипать их только трудно бывает, после: твёрдо, туго, докучливо, опять-таки оттого, что крепко жирны... Тут вся хитрость подогнать их к берегу, не пускать в голомя. А затем угодишь собрать их в табун и — погонишь. Бегут они, с боку на бок переваливаясь, боковые покружатся около середних да и устанут, и эти сядут. А там только отделяй в кучи шестами по участкам, да и гони потом в какую сеть пожелаешь. Идут охотно без разговоров, словно человек из бани вышел, да крепко запарился, да на печь полез спать после того и разговору держать никакого не может. Верь ты и в этом моей совести, как своей: врать мне не из чего!» (Максимов, 1871).
Современные читатели обычно воспринимают приведённый текст как рассказ об охоте на гаг, но о гагах ли здесь говорится на самом деле? В тексте фигурируют пять разных птичьих имён, и, учитывая вышеописанную терминологическую неразбериху, мы не берёмся восстановить, каких именно птиц называли этими именами рассказчики почти 200 лет назад. А вот если ориентироваться не на названия, а на описание поведения птиц, их численности и тактики охоты, то получится, что речь, скорее всего, идёт о черной казарке (Branta bernicla), имя которой в тексте вообще отсутствует13.
У того же Максимова встречается пух гаги, «который по осеням убеляет все южные склоны островных холмов» (Максимов, 1871) — ещё одно свидетельство того, что автор либо не знал как выглядит настоящий пух гаги, либо не видел ничего зазорного в том, чтобы соврать ради красного словца.
А вот другой признанный знаток Севера, Борис Шергин14, рассказывает о сборе гагачьего пуха.
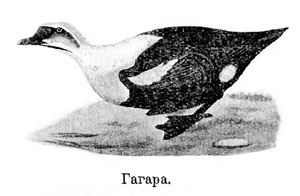
Птица, напоминающая гагу-гребенушку, с подписью «Гагара». Иллюстрация из книги Константина Носилова «На диком севере», 1913 г.
«На мурманских пахтах-утёсах гнездятся тысячи тысяч птиц — гагар, чаек. У зуйков15 особый промысел и статья дохода — собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесёт яйца. Этот пух можно взять, гага второй раз гнездо пухом своим выстелет. И второй пух можно собрать. Гага в третий раз нащиплет пуху. Этот пух нельзя тронуть. Птица бросит всё и навеки отсюда улетит. Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут тёплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц. Кроме пуху, собирают зуйки гагачьи яйца, большие красивые, бледно-зелёные с крапинками. На вкус — рыбой припахивают, — не все любят. И яйца брать, и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнёзда на узеньких карнизах, над глубокой пропастью, где кипит прибой. Как мухи по стене ползают мальчуганы по утёсам, через плечо мешок для пуху. И тут у гагар и чаек крику, стону, воплю, шума волн морских не слышно...» (Шергин, 1935).
Что же это такое рассказал нам знаток севера? Пух он описывает гагачий, а гнездование на узких скальных карнизах — от кайр и гагарок. Большие бледно-зелёные яйца у гаги, но без крапинок, крапинки это уже от кайры. И сама описываемая птица называется то гагой, то гагарой. Как же это? Ведь Шергин сам житель русского Севера, уроженец Архангельска, классик русской северной литературы? Так-то оно так, но, родившись в Архангельске, Шергин в возрасте 20 лет уехал учиться в Москву, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Его рассказы, основанные на детских впечатлениях и литературных источниках, отлично передают дух Севера, но не конкретные реалии северной жизни, которой он, по сути, не знал.
Наконец, четвёртый источник путаницы — русские переводчики. Даже там, где иностранный первоисточник называл птиц правильно, они при переводе вносили фирменную русскую неразбериху.
Целая страница посвящена гагам в популярной детской книге Германа Вагнера16 о животных и растениях мира. И всё было бы замечательно в этом тексте, если бы в русском его переводе гаги в половине случаев не назывались гагарами. Вряд ли автор путал гаг и гагар, тем более, что в его тексте указано и латинское название гаги. Гаги изображены и на картинке в этой книге. Но изображена там также и гагара, причём на самой картинке птицы не подписаны. В результате переводчик попеременно использует «гаг» и «гагар» с такой непринуждённостью, что совершенно очевидно: он считает эти слова синонимами.
«Морской берег северной Европы местами населён множеством морских и береговых птиц, которые выбирают эти места для отдохновения и вывода птенцов... На нашей картине изображены некоторые обыкновеннейшие из этих птиц. Из них наиболее прославилась гагара (і. Somateria molissima). Передняя из двух изображённых уток, отличающаяся чёрным и белым оперением, — самец, а бурая — самка... В местностях, где их не убивают, гаги не только отыскивают предоставляемые им маленькие островки с искусственно-устроенными и защищёнными местами для вывода птенцов, но отважно забираются даже во дворы и комнаты местных жителей, чтобы устраивать себе гнёзда... Вся Гренландия вывозит ежегодно 7000–8000 фунтов гагачьего пуха. Молодые утята, вскоре по вылуплении из яиц, следуют за старыми в море. В других местах, напр. на острове Шпицберген, у гагар вынимали из гнёзд все яйца, а также охотились на молодых ради их мяса, а на старых ради пуха, и там эти полезные птицы сделались уже редкими» (Вагнер, 1870).
Та же история повторяется и в русском переводе романа Жюль Верна «Путешествие к центру земли»17 (вместе с ещё одной версией участия самца в выстилке гнезда пухом).
«...Этот спокойный человек всего только охотник за гагарами. Действительно, для добывания перьев гагары, именуемых гагачьим пухом, который представляет собою главное богатство острова, не требуется большой затраты движений.
В первые летние дни самка гагары — род красивой утки — вьёт своё гнездо среди скал фьордов, которыми изрезан весь остров, а затем устилает его тонким пухом, выщипанным из своего же брюшка. Вслед за тем появляется охотник, или, вернее, торговец пухом, уносит гнездо, а самка начинает сызнова свою работу. Хлопоты птицы продолжаются до тех пор, пока у неё хватает пуха. Когда же она оказывается совершенно ощипанной, наступает очередь самца. Однако его грубое оперение не имеет никакой цены в торговле, и поэтому охотник уже не трогает гнезда, в которое самка вскоре кладёт яйца и где она выводит птенцов. На следующий год сбор гагачьего пуха возобновляется тем же способом. И так как гагара выбирает для своего гнезда не крутые, а легко доступные и отлогие скалы, спускающиеся в море, исландский охотник за гагарами может заниматься промыслом без большого труда. Он является своего рода фермером, которому не надо ни сеять, ни жать, а только собирать жатву» (Верн, 1955).
А вот в английском переводе того же текста всё в порядке: гага это гага (eider), и никаких гагар.
«... This calm person was only a hunter of eider, a bird whose plumage constitutes the main resource of the island. Called eider-down, you do not need to move a great deal to collect it. During the first days of summer, the female eider, a kind of prettified duck...» (Verne, 2005).
Очень странен рассказ о гаге в русской версии «Зверобоев залива Мелвилла»: ведь у гаг не одно яйцо и они не выкармливают птенцов, гагачьи дети кормятся сами.
«Вокруг нас плавали бесчисленные гаги; они ныряли в поисках пищи для своих птенцов. Это тяжёлый труд, ведь птенцы должны стать жирными и сильными, чтобы научиться летать. Эскимосы утверждают, что у каждой пары гаг бывает только один птенец именно потому, что если бы их было больше, то родители не смогли бы их прокормить. Однако это одно яйцо гаги так велико по отношению к самой птице, что эскимосы обычно обвязывают ногу гаги вокруг шеи новорожденной девочки, чтобы способность птицы рождать больших детей перешла к будущей женщине» (Фрейхен, 1961).
Ещё более странно выглядит этот текст, если знать, что его автор, Питер Фрейхен, много лет прожил в Гренландии, среди инуитов. Очень сомнительно, что он до такой степени не знал птиц, имевших огромное значение в жизни инуитов. И действительно, если мы посмотрим в английскую версию текста, то окажется, что речь идет о «auk» — то есть птицах из семейства чистиковых: «We saw countless auks swimming in the water around us, ducking for food for their young ones» (Freuchen, 1955). Путаницу опять внёс переводчик.
Этот же переводчик чуть не ввёл в заблуждение и меня. Если в разобранном выше случае был повод насторожиться, то в нижеследующем эпизоде ничто не указывало на ошибку, он воспринимался как прекрасный пример пищевой ценности гаг для гренландских инуитов.
«Эта часть года [весна] самая лучшая для эскимосов. Жирные гаги — неисчерпаемый источник пищи; можно прекрасно полакомиться вкусной птицей, ощущая, как жир стекает по щекам и подбородку. Когда гагу варят, то вода покрывается слоем блестящего прозрачного жира и кажется, что все прелести арктического лета заключены в этом супе. Если вдоволь наешься молодых гаг, то язык развязывается, и с жирных губ легко соскальзывают приятные слова; эскимосы тогда счастливы, им всё нипочем» (Фрейхен, 1961).

Иллюстрация из книги «Живописная Россия. Северная Россия. Север и северо-восток Европейской России, Белое море и Северный океан». М.: Белый город. 2006.
Однако сверка с оригинальным текстом, написанным на датском языке (Freuchen, 1956), показала, что речь идёт вовсе не о гагах, а о søkongen (датск.) — люрике (Alle alle), маленькой птице из семейства чистиковых! В английской версии их название переведено правильно, auklings (Freuchen, 1955). Почему русский переводчик решил назвать их гагами, остаётся только гадать.
Удивительно, но даже повсеместное присутствие интернета и доступность онлайн-словарей не решили эту проблему, и русские переводчики до сих пор продолжают путать читателей. Роман «Loon Lake» («Озеро гагар») (Doctorow, 1980) в русском переводе называется «Гагачье озеро», а изображение гагары с подписью «гага» благополучно присутствует в книге издания 2006 года...
Пуховая неразбериха
Рассказывая о структуре гагачьего пуха, мы упоминали, что большинство людей понятия не имеют, как именно этот пух выглядит, но не обсуждали масштабов бедствия. А они огромны. Настолько, что учёные, описывая вид, специально делают ремарку «Ложным является часто повторяющееся утверждение, что гагачий пух белый. Цвет мыши, возможно, лучше всего описывает его оттенок» (Newton, 1893–1896). И тем не менее, «белоснежный гагачий пух» по-прежнему можно встретить везде: от частных объявлений о продаже вещей до стихов.
Автор детективного романа строит сюжет на пропаже гагачьего пуховика, и что из этого получается? Полный абсурд.
« — У вас когда-нибудь был гагачий пух в качестве улик?
— Нет, сейчас впервые.
— Почему он так ценится?
— Потому что обладает термоизоляционными свойствами, о которых я уже говорил. Однако здесь присутствует ещё и эстетический момент. Гагачий пух — белый как снег. А любой другой пух в основном грязно-серый» (Корнуэлл, 1995).
Есть у массового незнакомства с пухом и менее невинная сторона — этим незнанием широко пользуются продавцы товаров из пуха. Множество объявлений — от откровенно сомнительных до вполне солидных — предлагают свадебные накидки из «белоснежного гагачьего пуха», гагачьи куртки по цене от 50 до 300 долларов и прочие нереальные вещи18. Однако эти вещи находят своих непросвещённых покупателей.

Объявления о продаже вещей из «гагачьего пуха» в интернете.
Обман, к сожалению, совсем не редкость и «на высшем уровне», среди тех, кто работает с реальным гагачьим пухом, и чьи изделия стоят столько, сколько должны стоить настоящие изделия из гагачьего пуха: от тысяч до десятков тысяч долларов. Несложные арифметические расчёты, основанные на официальных данных, показывают, что гагачьего пуха в виде курток и одеял в мире ежегодно продаётся существенно больше, чем пуха собирают. А значит, неизбежный вывод состоит в том, что какая-то часть этих изделий содержит не гагачий пух или не только его. Но многие ли покупатели отличат гагачий пух от пуха других уток, даже если будут держать его в руках? Вот то-то и оно...
И наконец...
Post scriptum для русскоязычных читателей.
Модная певица Леди Гага (настоящее имя Stefani Joanne Angelina Germanotta) не имеет никакого отношения к нашей героине — утке гаге. Псевдоним Lady Gaga певица начала использовать в 2006 году, когда работала с музыкальным продюсером Робом Фьюзари. Роб Фьюзари начал называть её Леди Гага за гримасы и позы, сходные с теми, что использовал Фредди Меркьюри (от песни «Radio Ga Ga»).
Созвучие имён эстрадной певицы и нашей героини существует только в русском языке. В англоязычном мире, где гага называется eider, никаких ассоциаций с певицей не возникает.
Литература:
Вагнер Г. 1863. Путешествия по комнате. СПб.; М.: М. О. Вольф.
Вагнер Г. 1870. Мир в картинах. Животное и растительное царства всех поясов земли. Пер. Ф. Резенера. СПб.: М. О. Вольф.
Верн Ж. 1955. Путешествие к центру Земли // Собрание сочинений в 12-ти тт. Т. 2. М.: Государственное издательство художественной литературы.
Дубровский А. Н. 1939. Гага // Вестник знания. Вып. 4/5. С. 74–77.
Корнуэлл П. 1995. Жестокое и странное. М.: Новости.
Максимов С. В. 1871. Год на Севере. СПб.: Тип. А. Траншеля.
Модестов В. М. 1939. Дневник за время работы на Семи островах 15 апреля — 30 июля 1939 г. Научный архив КГПЗ. Д. В-3262.
Некрасов Н. А. 1983. Три стороны света // Полное собрание сочинений и писем в пятнадцати томах. Т. 6. Л.: Наука.
Немирович-Данченко В. Н. 1877. Страна холода. СПб.; М.: М. О. Вольф.
Носилов К. Д. 1913. На диком севере. М.: Юная Россия.
Описание Северного края, его обитателей и их промыслов. 1881. СПб.: изд-ние журн. «Мирской Вестник».
Пинегин Н. В. 1909. Айновы острова: Из путевых воспоминаний о Севере // Известия Архангельского общества изучения Русского севера. № 13. С. 61–74.
Соколов А. Ф. (ред.). 1904. Архангельский край. Два чтения. СПб.: Изд. учр. по высоч. повел. Пост. коммис. народного чтения.
Тимковский Д. И. 1910. Наша страна. Картины природы и быта народов России: географический сборник для чтения в семье и школе. Москва: т-во И. Д. Сытина.
Ухтомский Л. А. 1883. Новая Земля: этнографический этюд. СПб.: тип. Чичинадзе.
Филиппов А. С. 1933. Организация гагачьего хозяйства на Харловских островах Кольского полуострова. Птичьи базары. Под ред. и с дополнениями проф. Г. Доппельмаира и Г. В. Полубояринова. Научный архив КГПЗ. Д. В-1369.
Формозов А. Н. 1930. Гага и промысел гагачьего пуха. Распространение, биология, хозяйственное значение, методы правильного использования гнездовых колоний, собирание пуха, его очистка и хранение. М.: Всекохотсоюз.
Фрейхен П. 1961. Зверобои залива Мелвилла. М.: Географгиз.
Шергин Б. 1935. Мурманские зуйки: Из рассказов о старом Поморье // Колхозник. № 3. С. 37–43.
Doctorow E. L. 1980. Loon Lake. New York: Random House.
Goldsmith O. 1806. The Works of Oliver Goldsmith: With an Account of His Life and Writings, Vol. 8. London: J. Johnson.
Freuchen P. 1955. Ice Floes and Flaming Water: A True Adventure in Melville Bay. London: Victor Gollancz Ltd.
Freuchen P. 1956. Fangsm?nd i Melville-bugten. Copenhagen: Gyldendal.
Newton A. 1893–1896. A dictionary of birds. London: Adam and Charles Black.
Pearson H. J. 1904. Three Summers Among the Birds of Russian Lapland. London: Porter.
Pennant T. 1784, 1787. Arctic Zoology. London: Hughs.
Phillips J. C. 1926. A Natural History of the Ducks. Vol. 4. London: Longmans, Green & Co.
Pfeiffer I. 1852. A Visit to Iceland and the Scandinavian North. London.
Pontoppidan E. 1755. The Natural History of Norway. London: A. Linde.
Sverdrup O. 1904. New Land. Four years in the Arctic Region. London: Longmans, Green and Co.
Verne J. 2005. Journey to the Center of the Earth. N.Y.: Dover Publications.
Vosoughi S., Roy D., Aral S. 2018. The spread of true and false news online // Science. Vol. 359. No 6380. P. 1146–1151.
1 Alfred Newton (1829–1907) — британский зоолог и орнитолог. Первый профессор зоологии и сравнительной анатомии в Кембридже. Соучредитель Британского союза орнитологов.
2 Oliver Goldsmith (ок. 1730–1774) — английский прозаик, поэт и драматург, более всего известен как автор комедии «Ночь ошибок».
3 Птенец гаги, который запрыгивает на спину самки и плывёт на ней, снят в исландском документальном фильме Icelandic Eiderdown (10-я минута).
4 Имеется в виду одно из первых научных описаний гаги в книге «Орнитология» Фрэнсиса Уиллоби, 1678 г. См. гл. 3.2. Эволюция представлений о гаге в научной литературе.
5 Пахта (поморское) — отвесная скала.
6 В таблице использованы фото чернозобой гагары Александра Яковлева и фото гагарки и тонкоклювой кайры (очковой и обычной форм) Рюрика Чемякина.
7 Henry John Pearson (1850–1913) — британский орнитолог и натуралист. В 1899, 1901, и 1903 гг. совершил экспедиции в российскую Лапландию.
8 Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878) — русский поэт, писатель и публицист.
9 Максимов Сергей Васильевич (1831–1901) — российский этнограф-беллетрист, почётный академик Петербургской АН. По заданию Морского ведомства провёл год (1856–57) в командировке на северо-западе России. На основании собранных сведений написал книгу «Год на Севере». Книга стала одной из крупнейших и самых известных работ по этнографии данного региона в XIX в., неоднократно переиздавалась, в том числе и в наши дни.
10 «Груманские» — от Груманта, старого поморского названия Шпицбергена.
11 «Каумбах» — возможно, от каумбак, сибирское название утки савки (Oxyura leucocephala), имеющей очень своеобразную внешность и совершенно не похожей на гагу.
12 «Гагка» — старое поморское название гаги обыкновенной.
13 Подробное описание роли казарок в жизни ненцев и загонной охоты на них в период линьки, приносящей несколько тысяч птиц за загон, подробно описывает А. Тревор-Бетти в своей книге 1897 года «Во льдах и снегах» (оригинал «Ice-bound on Kolguev» вышел 1895 году).
14 Шергин Борис Викторович (1893–1973) — русский писатель, фольклорист, публицист и художник, известен главным образом историями из жизни поморов.
15 Зуёк — небольшой кулик из семейства ржанковых. Зуйками в Поморье называли мальчиков, которые нанимались на подсобные работы к рыбакам-промышленникам (готовили еду, рыболовные снасти и др.).
16 Hermann Wagner (1840–1894) — немецкий педагог и популяризатор естественных наук. В дореволюционной России детские научно-популярные книги Вагнера по естественной истории выдержали многочисленные издания.
17 «Путешествие к центру Земли» — научно-фантастический роман французского писателя Жюль Верна, впервые опубликованный в 1864 году и рассказывающий о путешествии, совершённом группой исследователей в земных недрах. Русский перевод был впервые сделан А. Сувориной и Е. Лихачёвой (СПб., 1865).
18 Справедливости ради замечу, что белоснежный гагачий пух всё-таки существует и в реальности, впервые своими глазами я увидела его в 2019 г. в Исландии. По свидетельству исландских фермеров, крайне редко, не чаще, чем в одном гнезде из нескольких тысяч, им приходилось встречать абсолютно белый пух, причём насиживали такие гнёзда обычные самки, не альбиносы. Нигде, кроме Исландии, встречи подобных гнёзд не отмечены и причины образования у гаг белоснежного пуха не известны. Как бы то ни было, возможное содержание белого пуха в общем пуховом «урожае» микроскопически мало, а о каких-либо изделиях из него не может быть и речи.
* В русском переводе здесь также допущена та же ошибка, о которой говорит автор — птица названа «гагарой», хотя по-латыни подписана верно. — прим. «Элементов».
** В издании книги 1870 года сказано: «морская сорока, или кривокъ». По сообщению автора, Александры Горяшко, народное название кривок до сих пор кое-где сохранилось. — прим. «Элементов».
*** В том же старом издании фигурировало название «гагара ошейниковая». — прим. «Элементов».




























Самка и птенец гаги во время отдыха на берегу. Фото: Bernard Castelein.