«Все эти миры — ваши». Глава из книги
Глава 7. Титан — гигантский завод органических химических веществ
Почему в нашем рассказе о поиске жизни во Вселенной Титану уделена целая глава? На самом деле, дочитав до этого места, вы, должно быть, недоумеваете — вообще-то, не без оснований, — почему мы еще не вышли за пределы Солнечной системы? Когда же мы перейдем к новым звездным системам, новым планетам, новой жизни? Пожалуйста, не говорите, что это очередная книга «о жизни во Вселенной», где речь идет лишь о Солнечной системе, а про все самое увлекательное, о чем бы так хотелось узнать, не упоминается. Нет, конечно же нет, можете не волноваться. Но спасибо, что вы все еще терпеливо читаете и не откладываете книгу.
Итак, почему же Титан? Почему он входит в первую пятерку? Самый простой ответ — на нем присутствуют все оговоренные нами условия для существования жизни, правда с одним очень важным отличием. Этот крупный спутник — первый из обнаруженных спутников Сатурна — превышает размерами Меркурий и только немного уступает Ганимеду. Он обладает атмосферой, которая плотнее земной, но не такая горячая и токсичная, как венерианская. Сказать, что там присутствует множество органических соединений, — это ничего не сказать. Титан — гигантский химический завод Солнечной системы, производящий множество сложных органических веществ. Там даже есть резервуары с жидкостью в стабильном состоянии — это озера и реки, текущие по поверхности, а не запрятанные глубоко под непроницаемым ледяным панцирем.
Так в чем же подвох? Там холодно. Очень холодно: −180°C. Слишком холодно для существования жидкой воды, но, как сказала бы Златовласка, как раз впору для жидкого метана и этана. Это и есть важное отличие. Вся основанная на воде химия живых существ, которая служит основой для жизни на Земле, совершенно не подходит для углеводородных морей. Однако в наличии имеется все необходимое для жизни: жидкость, энергия и органика. Если здесь когда-нибудь обнаружат жизнь, то она будет совершенно не похожа на земную, поскольку построена на других химических принципах. Вот почему Титан имеет такое большое значение, и я хочу, чтобы мы там побывали.
Сквозь тьму анаграммы
Христиан Гюйгенс открыл Титан в 1655 г., через 45 лет после того, как Галилей обнаружил четыре спутника Юпитера. Гюйгенс использовал тот же метод, что и Галилей: повторял наблюдения за движением спутника по орбите Сатурна, что позволило ему оценить период его обращения в 16 суток и 4 часа (современное уточненное значение всего лишь на 6 часов меньше). И Христиан Гюйгенс, и его брат Константин были искусными шлифовщиками линз, и их телескоп длиной 3 м давал 50-кратное увеличение — в 5 раз больше по сравнению с тем, что использовал Галилей в своих наблюдениях Юпитера.
Способ, которым Гюйгенс объявил о своем открытии, — пример того, как шутили ученые в XVII в. Летом 1655 г. он разослал своим коллегам следующую анаграмму: Admovere oculis distantia sidera nostris, vvvvvvv ccc rr h n b q x1. И только на следующий год — по-видимому, когда он окончательно убедился в своем открытии — он выпустил памфлет, в котором расшифровал смысл анаграммы: Saturno luna sua circunducitur diebus sexdecim horis quatuor, что, как уже догадались те из вас, кто получил классическое образование, означает: «Спутник обращается вокруг Сатурна за 16 дней и 4 часа». К несчастью, ученые больше не составляют анаграмм для своих коллег, чтобы закрепить за собой право первенства на новые открытия. Сейчас для этой цели используются специальные серверы, куда авторы выкладывают краткое изложение уже переданных в печать, но еще не опубликованных статей, — способ, конечно, эффективный, но начисто лишенный романтики.
Туманная дымка Титана
До полета «Вояджера-1» 12 ноября 1979 г. Титан был загадочным телом, окутанным оранжевой дымкой, — мы ничего не знали о его поверхности. И даже после пролета «Вояджера-1» положение почти не изменилось — про его поверхность мы не узнали ничего нового. Но зато «Вояджер» позволил нам разглядеть во всех подробностях саму эту плотную, туманную атмосферу.
Атмосфера Титана почти полностью состоит из азота — 95% от общей массы — в форме N2. Оставшиеся 5% почти целиком составляет метан — CH4. Но самое интересное — молекулярный водород, H2, и множество разнообразных углеводородов: от самых простых, которые мы можем распознать по их отчетливым спектральным линиям в спектре излучения, до невероятной путаницы органических молекул, обладающих такими сложными спектральными характеристиками, что невозможно установить их формулу.
«Вояджер» выявил, что в атмосфере Титана постоянно присутствуют туманы, а облака относительно редки. Туманные верхние слои атмосферы подобны земному углеводородному смогу. Этот смог состоит в основном из микроскопических частиц, которые Карл Саган и Бишун Харе окрестили толинами2, представляющими собой смесь органических молекул. Эти частицы настолько легки, что остаются распыленными в атмосфере и не оседают на поверхность.
Самая удивительная особенность атмосферы Титана — это ее масштабы. В целом масса этой атмосферы на 20% больше земной. Но сила тяжести на поверхности Титана составляет лишь 14% от силы тяжести на Земле, и в результате его атмосфера очень разреженная и протяженная. С учетом массы атмосферы Титана и силы тяжести на его поверхности получим, что атмосферное давление на Титане приблизительно в полтора раза выше, чем на Земле. А значит, вы сможете ходить по его поверхности без космического скафандра, хотя, конечно, вам потребуются теплая одежда и кислородная маска.
Самые проницательные из вас могут поинтересоваться, каким образом Титан удерживает свою атмосферу несмотря на воздействие заряженных частиц солнечного ветра, обладающих высокой энергией. Это действительно хороший вопрос — у Титана нет своего магнитного поля. Но его орбита по большей части проходит в пределах магнитного поля его родителя — Сатурна, которое препятствует сдуванию атмосферы Титана солнечным ветром. Другая возможность пополнения атмосферы Титана — низкотемпературный вулканизм (криовулканизм), при котором на поверхность извергается метан и другие газы.
Что служит источником энергии для завораживающих и в значительной степени малоизученных химических процессов в атмосфере Титана? Конечно же, Солнце. В атмосфере Титана активно идут различные фотохимические процессы. Хотя на каждый квадратный метр поверхности Титана приходится гораздо меньше фотонов, чем попадает на поверхность Земли, энергия фотонов в обоих случаях одинакова3. Солнечные фотоны, бомбардирующие верхние слои атмосферы Титана, обладают достаточной энергией, чтобы вызвать разложение (фотодиссоциацию) метана. Фрагменты молекул впоследствии присоединяют атомы водорода, азота и других элементов, образуя более сложные органические соединения.
Незнакомый новый мир
Только в 2004 г., когда космический аппарат «Кассини» прибыл к Титану и высадил на поверхность спускаемый аппарат «Гюйгенс», мы поняли, с каким удивительным новым миром мы столкнулись.
Зонд «Гюйгенс» — небольшой стационарный посадочный модуль — был спущен на поверхность Титана на парашюте и совершил посадку 14 января 2005 г. Во время спуска «Гюйгенс» воспользовался своим выгодным положением, чтобы получить изображение ранее невиданной поверхности. Его взгляду предстали невысокие бледные холмы из твердого как камень, водяного льда, изрезанные несметным числом темных, извилистых каналов. Про посадочный модуль «Гюйгенс» можно сказать, что он не столько сел, сколько шлепнулся на поверхность спутника4. Он сделал несколько завораживающих снимков окружающего ландшафта: равнины, покрытой густой органической жижей, пересыпанной небольшими булыжниками из водяного льда. Хотя батареи «Гюйгенса» продержались в условиях экстремального холода всего 90 минут, эта экспедиция стала прорывом в изучении Солнечной системы: в первый раз в истории космический аппарат пересек пояс астероидов и совершил посадку на спутник во внешней Солнечной системе.
За последнее десятилетие «Кассини» совершил более сотни пролетов на небольшом расстоянии от Титана. Хотя дымка в атмосфере Титана поглощает излучение как в оптическом, так и в инфракрасном диапазоне, она полностью проницаема для радиоволн. Это обстоятельство позволило «Кассини» сделать четкие радарные снимки поверхности Титана. Подобно тому как выкашивают полосы на лужайке, за каждый пролет «Кассини» снимал только узкую полоску поверхности, но даже при таком ограничении «Кассини» удалось отснять около 50% общей площади Титана. На этих снимках видно, что большие области поверхности представляют собой гладкие как зеркало равнины. Как мы уже видели на примере антарктического ледяного панциря, это указывает на наличие жидкости, но в данном случае с учетом температуры и состава атмосферы это не вода, а скорее метан или этан.
Кроме того, радарные снимки дают беспрецедентную возможность заглянуть внутрь самих озер: слабое затухание радиосигнала по мере проникновения в слои жидкости — методика, известная как радиолокационная батиметрия — показало, что озера на Титане существенно отличаются друг от друга. Некоторые из них просто мелкие котловины от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров глубиной. Другие, такие как море Лигеи, по величине не уступают Великим озерам в Северной Америке, а их глубины достигают 170 м5. Наконец в 2009 г. эти озера предстали во всей своей красе, когда зонду «Кассини», оснащенному картирующим спектрометром видимого и инфракрасного диапазона, удалось заснять отблеск солнечных лучей на их поверхности. Такие зеркальные отражения — подобные блеску солнечных лучей на поверхности земных морей и озер — служат бесспорным свидетельством существования больших резервуаров жидкости на поверхности Титана.
После неожиданного открытия озер последовали новые радарные снимки, на которых были видны реки из метана и этана, а также обширные равнины, очевидно покрытые высокими дюнами из органического песка. Наличие рек — дренажных каналов — согласуется с анализом температур и давления в атмосфере Титана, согласно которому метан должен испаряться из озер во влажные нижние слои атмосферы и выпадать на поверхность в виде осадков. Другими словами, в атмосфере Титана существует аналог земного гидрологического цикла, только роль воды в нем выполняет метан.
Титан — это мир, которому нет подобных. Но чем больше ученые узнают о нем, тем очевиднее становится, что если и стоит говорить о сходстве с каким-нибудь другим миром в Солнечной системе, то по своему химическому составу и физическим процессам Титан больше всего напоминает Землю. Но не сегодняшнюю, а раннюю Землю до возникновения жизни — мир Миллера — Юри, когда в атмосфере не было кислорода и легко синтезировались сложные органические вещества. Это довольно смелое утверждение, если довести его до логического завершения. Хотя мы не знаем точно, как на Земле зародилась жизнь, на сегодняшний момент считается, что она возникла естественным путем в результате проходивших на древней Земле химических процессов. Может ли современный Титан воспроизводить те древние химические условия? И если да, может ли он считаться главным претендентом на существование на нем жизни? Некоторые находят данное утверждение слишком уж смелым. По их мнению, такие факторы, как отсутствие жидкой воды (столь необходимой для земной жизни) и низкие (по сравнению с земными) температуры, являются непреодолимыми препятствиями для возникновения биохимии.
Но этими различиями во мнениях и сопутствующими им сомнениями в безальтернативности наших земных представлений о биохимии и объясняется наш интерес к Титану. Титан заставляет нас взглянуть на мир по-другому, подвергнуть сомнению общепризнанные истины. Когда мы смотрим на земную жизнь с Титана, нам волей-неволей приходится пере смотреть свои прежние взгляды. И это только к лучшему.
Уникальный Титан
В 2000 г. Питер Уорд и Дональд Браунли опубликовали революционную книгу «Уникальная Земля» (Rare Earth). В ней они рассмотрели основополагающие идеи астробиологии, а также цепь совпадений, случайностей и тонкой настройки Вселенной, которая привела к возникновению высокоразвитой жизни на нашей планете. Их главное утверждение состояло в том, что планеты, подобные Земле, населенные живыми существами вроде вас, встречаются исключительно редко. Более того, они допускали, что Земля может быть единственной среди множества обитаемых миров, населенных разнообразными примитивными формами жизни. Но в сознании читателей этой книги утверждения свелись к совершенно неправомерному выводу: «Земля уникальна, жизнь — большая редкость».
Крис Маккей, астроном, работающий в Исследовательском центре Эймса, подразделении НАСА, обыграл некоторые из этих ложных толкований, выступив с концепцией «Уникального Титана». Маккей вообразил астробиолога с Титана, рассуждающего о возможности существования жизни на Земле. Этот астробиолог утверждает, что странная сине-зеленая планета с океанами жидкой воды и насыщенной кислородом атмосферой должна быть абсолютно токсичной для любой формы жизни, биохимия которой сходна с титанианской. Более того, при таких высоких температурах, которые наблюдаются на поверхности Земли, большая часть основных молекул титанианской жизни разрушится. С учетом всего вышесказанного было бы ошибкой выбрать Землю в качестве следующей цели титанианской6 астробиологической миссии. За этой шуткой стоит важная мысль о том, что нам необходимо избавиться от нашего эмоционального багажа, по крайней мере в той его части, которая касается необходимости воды и умеренных температур для существования жизни, если мы хотим сохранить непредвзятый подход к поискам и окончательному распознаванию хоть сколько-нибудь чуждой нам жизни.
Вода, спринцовка жизни
Так как нам избавиться от груза предрассудков, чтобы подготовиться к астробиологической экспедиции на Титан? Давайте начнем с воды.
Многие биологи выстроятся в очередь, чтобы рассказать вам о том, как важна вода для жизни на Земле. Но тут необходимо понять, является ли вода единственно возможной жидкостью для жизни или это просто одна из многих жидкостей, которые могут служить средой для развития жизни. В настоящее время мы этого не знаем главным образом потому, что еще до конца не изучили земную жизнь, не говоря уже о жизни вообще. Справедливости ради надо отметить, что многие астробиологи отдают себе в этом отчет, и поэтому дружный крик «Ищите воду!» часто сопровождается оговорками, что вода — это жидкость, используемая земной жизнью, единственной, какую мы на сегодня знаем. Поэтому я попробую на какое-то время отказаться от этой точки зрения. Вместо этого я расскажу вам о ситуациях, когда вода мешает существованию жизни и как жизнь либо как-то приспособилась к этому, либо просто притерпелась и живет себе дальше.
Вода — это образцовая полярная жидкость, хотя в данном случае термин «полярная» относится больше к химии, чем к географии. Поместите водород в молекулу с атомом, сильно притягивающим электроны, например с атомом кислорода, и окажется, что, хотя все атомы имеют общие электроны (и формируют таким образом, ковалентную связь), некоторым достается больше, а некоторым — меньше. Кислород получает львиную долю электронов, и в результате положительный и отрицательный заряды распределяются неравномерно, превращая молекулу в электрический диполь.
Там, где противоположные заряды притягиваются, они образуют слабые водородные связи, которые могут формироваться между полярными молекулами или даже внутри них. Водородные связи помогают другим полярным молекулам, таким как соли, белки или даже ДНК, растворяться в воде, что дает им возможность свободно перемещаться и реагировать с другими растворенными в воде химическими веществами. В этом смысле можно сказать, что вода «полезна» для жизни, поскольку земная жизнь использует для своей химии причудливую смесь солей и белков.
Но в отношениях воды и жизни есть и своя «темная сторона». Нуклеиновые основания, которые составляют нашу ДНК, имеют настораживающую тенденцию разрушаться в воде: полярные молекулы могут разрушить слабые ковалентные связи путем гидролиза. В результате для сохранения целостности генетического кода требуется регулярный ремонт ДНК. Полярная природа воды также затрудняет образование водородной связи, участвующей в фолдинге7 белка. То, как каждый конкретный белок сворачивается в трехмерную структуру, играет критически важную роль в определении его биохимических свойств. Эти особенности не ставят непреодолимых препятствий на пути жизни, они больше похожи на крутые повороты, для прохождения которых требуются дополнительные химические усилия.
Многие ученые полагают, что возникновение жизни на Титане невозможно, поскольку имеющаяся там жидкая среда, скорее всего, состоит из смеси метана и этана, а молекулы обоих этих веществ неполярны. Многие полярные соли, белки и органические вещества, которые играют важную роль в жизнедеятельности земных организмов, нерастворимы в метане или этане. Вместо этого они будут выпадать в осадок и образовывать отложения на дне морей и озер. Но существует не меньшее количество органических веществ, которые растворяются в таких жидкостях, как метан и этан. Попробуйте спросить у тех, кто занимается органической химией, какую жидкость они используют в большинстве своих лабораторных экспериментов, и, скорее всего, они назовут не воду, а что-то другое. У тех химических соединений, которые хорошо растворяются в метане и этане, больше возможностей использовать слабые водородные связи, которые могут особенно хорошо подходить для низкотемпературных сред.
Может ли эта альтернативная, неполярная органическая химия стать основой внеземной жизни? Ответ, очевидно, положительный. Более важный вопрос — какие главнейшие биомолекулы нам следует искать? Чтобы найти на него ответ, нам следует отправиться на Титан и проанализировать содержимое колбы с жидкостью из небольшого холодного метанового пруда — титанианского аналога «небольшого теплого водоема», в котором Дарвин узрел зарождение земной жизни. Однако, как нам еще предстоит убедиться, на это потребуются гигантские средства (миллиарды и миллиарды) и несколько десятилетий упорного труда. А до тех пор какие черты Титана можем мы воспроизвести на Земле, чтобы заранее представить себе, с каким химическим и чисто гипотетически биохимическим окружением мы там столкнемся?
Златовласка на Титане
Может ли Титан оказаться «как раз впору» для жизни? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем применить к нему те же теории, которые использовались для объяснения возникновения жизни на Земле. Возможно, самый результативный лабораторный опыт из всех, что применялись для моделирования химической картины ранней Земли, — это эксперимент Миллера — Юри.
Современные атмосферные условия на Титане не сильно отличаются от тех, которые, согласно нашим представлениям, существовали на Земле до возникновения жизни, и это главная причина, которая вызывает к нему такой интерес. Важные составляющие — это наличие водорода (который может отдавать электроны) и относительное отсутствие кислорода (который электроны притягивает). В атмосфере Титана, равно как и ранней Земли, водород — хороший восстановитель, отдающий свои электроны для синтеза новых органических веществ. Кислород — хороший окислитель, всегда стремится присоединить к себе электроны других атомов или молекул.
Так как же нам создать лабораторную модель Титана? Получить аналогичную по составу химическую смесь совсем не сложно — 95% азота, незначительное количество метана и еще капелька угарного газа. Но откуда взять энергию для химических реакций? Поверхность Титана затемнена густой атмосферной дымкой — там нет ионизирующего излучения. Кроме того, по всей видимости, на Титане не бывает молний, которые могут стать искрой жизни, способной запустить химические реакции. Но верхние слои атмосферы — над дымкой — это среда, в которой протекают различные фотохимические процессы. Нам это известно, поскольку данные, полученные с помощью «Вояджера» и «Кассини», показали наличие побочных продуктов — по крайней мере самых простых, — возникающих в результате фотодиссоциации метана под воздействием фотонов солнечного света. Следовательно, перед нами стоит задача смоделировать верхние слои атмосферы Титана — сочетание крайне низкого давления и ионизирующего излучения — и проследить, чтобы интересующая нас химическая реакция происходила в разреженном газе, а не на стенках барокамеры8.
Титанианская версия эксперимента отличается от оригинального эксперимента Стэнли Миллера одной очень важной деталью: в ней нет жидкости. Миллер и его последователи прогоняли органические вещества через колбу с жидкой водой, которая должна была выполнять функцию земных океанов. В нашей версии атмосферы Титана все реакции происходят в камере, заполненной преимущественно азотом. С учетом этих различий, которые могли быть решающими, каковы же оказались результаты «внеземной» версии эксперимента Миллера — Юри? Как ни странно, но, изменив состав смеси и приблизив условия эксперимента к условиям Титана, а не ранней Земли, мы не повлияли на полученный результат. В эксперименте Миллера — Юри, проведенном по титанианскому рецепту, синтезируются многие известные нам аминокислоты и азотистые основания.
Возможно, вы зададитесь вопросом, каким образом органические молекулы, синтезированные в верхних слоях атмосферы Титана, могут спуститься на поверхность и принять участие в потенциальном зарождении жизни. Честно говоря, мы этого не знаем. Самые интересные органические молекулы, возникшие в результате этого эксперимента, аминокислоты и азотистые основания, значительно тяжелее молекул, составляющих атмосферу веществ. В настоящее время мы предполагаем, что они будут диффундировать по направлению к поверхности. С физической точки зрения такое вполне возможно, однако в основе этой гипотезы лежит полное отсутствие каких-либо данных о динамике атмосферы Титана.
Так какое все это имеет значение для жизни на Титане? Возникновение одних и тех же аминокислот и азотистых оснований в опытах, моделирующих как Титан, так и древнюю Землю, возможно, говорит о том, что эти молекулы — общие промежуточные этапы на извилистых путях химических реакций, в которые вступают органические вещества в обеих средах. Хотя некоторые из этих аминокислот и азотистых оснований используются земной жизнью, крайне маловероятно, что жизнь на Титане выбрала именно их, поскольку данные органические вещества не растворяются в жидком метане и этане.
Возможно, мы не заметили каких-то очень важных молекул, появившихся в ходе нашего эксперимента, поскольку нам о них ничего не известно — наши взгляды на жизнь по-прежнему находятся под влиянием земной жизни и составляющих ее молекул. Но так или иначе мы можем сказать, что Титан — разнообразная, химически активная среда, во многом сходная с ранней Землей. Большинство современных ученых полагают, что жизнь на Земле зародилась именно в такой среде. Так что в этом смысле Титан «как раз впору» для жизни. Но не стоит забывать, что мы не знаем, в результате чего состояние «как раз впору» сменилось реальной жизнью. С учетом того, что мы знаем о проходящих на Титане интенсивных химических процессах, не исключена вероятность того, что он может служить местом, пригодным для жизни.
Слишком холодно для жизни?
Можно ли говорить, что на Титане слишком холодно для жизни? Можно ли исключить всякую возможность жизни на основании одной лишь низкой температуры? И здесь опять ответ будет отрицательным. Все дело в том, что энергию для жизни дает не температура — энергию для жизни дают химические реакции.
Да, действительно, с повышением температуры скорость химических реакций увеличивается. То, что мы ощущаем как температуру, в действительности лишь хаотичное движение частиц (атомов или молекул), из которых состоит данная конкретная среда. Повышение температуры означает увеличение скорости, а значит, уменьшение времени, которое проходит между столкновениями атомов или молекул между собой. Для этого состояния нет температурного предела. Если ваш образец имеет температуру 300 К (27°С), он обладает в два раза большим количеством теплоты, чем тот же образец при температуре 150 К (−123°С).
Вода, из которой вы и я преимущественно состоим, станет твердой как камень задолго до того, как ее температура достигнет этого предела, поэтому можно сказать, что ниже определенного значения температуры земная жизнь не может существовать, для нее это слишком холодно. Это верно, но только потому, что земная жизнь основана на воде. Выберите другую жидкую среду, к примеру аммиак, метан или этан, и нижняя граница температуры, при которой возможна жизнь, опускается. Вам придется подобрать другие органические вещества, которые подходили бы для этой формы жизни, но большая часть органической химии по-прежнему будет в вашем распоряжении. Вы можете также раздвинуть границы земной жизни, смешав антифриз с небольшим количеством воды, и посмотреть, будет ли ферментная химия, используемая всеми живыми существами на Земле, работать по-прежнему. Как выяснилось, будет вплоть до температуры −100°C. В целом, хотя низкие температуры отразятся на скорости протекания возможных биохимических реакций, они не помешают их осуществлению.
Если мы откажемся от землецентрической точки зрения, что температура от 0 до 100°C «лучше всего» подходит для жизни, то обнаружим, что при более низких температурах жизнь обладает определенными преимуществами. Например, органическая химия Титана может использовать водородные связи (которые слабее ковалентных) для образования более широкого диапазона стабильных химических соединений, чем это возможно при более высоких температурах. Низкотемпературная титанианская жизнь марширует под более медленный ритм, чем теплолюбивая земная, однако, поскольку условия на Титане стабильны, это не помешает ей преодолеть как добиологическую часть пути, так и собственно возникновение жизни.
Неудобная правда
Самое трудное в обнаружении жизни на Титане — это придумать способ ее распознать. Даже на Земле ученые, представляющие различные дисциплины, не могут выработать единого определения жизни.
Вместо того чтобы рассматривать различные определения, применяемые зоологами, ботаниками, химиками, молекулярными биологами и прочими, давайте сосредоточимся на астробиологах. Давайте вспомним, какие методы применяли астробиологи ранее, когда пытались обнаружить признаки жизни, как, например, в случае экспедиции «Викинга» или изучения ALH84001. Каждая группа ученых использовала какое-то конкретное определение жизни, и при планировании экспериментов или проведении анализов они стремились проверить соответствие образцов именно этим гипотезам.
Начнем с «Викинга». В экспериментах, осуществленных в рамках биологической программы экспедиции «Викинга», питательные вещества добавлялись к образцам марсианского грунта при различных условиях. Во время планирования миссии ученые решили, что, если в ходе эксперимента будет зафиксировано выделение газов, это можно будет считать надежным показателем метаболической активности марсианских микробов. В данном случае определение жизни было: «Во мне идут процессы обмена веществ — значит, я существую». А как же тогда ALH84001? Ученые искали микроскопические — точнее, наноскопические — физические структуры, в которых можно было бы распознать окаменевшие клетки. В этом случае определением жизни было: «Я организуюсь — значит, я существую».
Итак, если мы полетим на Титан — давайте предположим, что это будет автоматическая миссия, — каким должно быть наше рабочее определение жизни? Мы пришли к заключению, что нам больше всего подходит определение жизни как самоподдерживающейся химической системы, подверженной дарвиновскому отбору. С учетом этого определения что мы будем искать и какие опыты будем проделывать?
Один из главных сторонников этого эволюционно ориентированного поиска жизни — Стивен Беннер из Фонда прикладной молекулярной эволюции. Он полагает, что три самые важные молекулы, которые использует земная жизнь, — ДНК (хранилище генетической информации), РНК (осуществляющая транспортную и строительную функцию) и белки (отвечающие за работу всей системы). Более того, он утверждает, что атомные структуры трех этих земных биомолекул соответствуют неким простым принципам, которые могут быть универсальными для любой жизни. Если мы научимся распознавать внеземные молекулы, соответствующие этим принципам, это позволит нам обнаружить инопланетную жизнь.
Один из самых простых принципов, которые нам предстоит усвоить, — полиэлектролитная теория гена. Суть ее заключается в том, что главное свойство, которое делает молекулу ДНК таким хорошим средством кодирования информации, — это повторение отрицательного заряда, присутствующего у фосфатных групп, составляющих остов всех молекул ДНК. Поскольку одноименные заряды отталкиваются, это заставляет молекулы ДНК вытягиваться в длинные нити, что значительно облегчает ее дальнейшее считывание молекулой РНК. Кроме того, повторяющийся на всем протяжении электрический заряд определяет общие химические свойства молекулы ДНК, как, например, то, что она растворяется в воде. Тот факт, что изменение последовательности азотистых оснований C, A, G и T, из которых складывается здание нашей жизни, не меняет химических свойств молекулы, является исключительно важным условием для сохранения возможности генетических изменений (хотя некоторые ученые с этим не согласны).
Так что наша задача — придумать эксперименты по образцу тех, что проводились молекулярными биологами, которые были бы достаточно простыми и надежными, чтобы их можно было осуществить на Титане и попробовать отыскать эти характерные молекулы на месте. Это очень многообещающее новое направление — определение жизни на языке молекулярной биологии. Те из вас, кто подходит к астробиологии с практической точки зрения, вероятно, согласятся, что некое сочетание из трех изложенных выше подходов — метаболизма, клеточной структуры и молекулярной структуры — позволит нам создать исчерпывающую программу биологических исследований для Титана.
Кто съел весь ацетилен?
Титан постоянно подвергает сомнению наши представления о химическом составе его поверхности и атмосферы. Некоторые из этих представлений вполне убедительны: метан, присутствующий в атмосфере в больших количествах, преобразуется в более сложные органические соединения в результате воздействия солнечного излучения. Другие черты титанианской атмосферы нам по-прежнему непонятны: если метан превращается в более сложные химические вещества, то почему он со временем не иссякает?
При современной скорости фотохимических реакций метан, в настоящее время присутствующий в атмосфере, будет весь израсходован примерно за 50 млн лет. В масштабах времени существования Солнечной системы — это одно мгновение. Так как же восполняются запасы метана? Довольно убедительным объяснением этого явления может служить криовулканизм, когда струи газа изливаются на поверхность спутника из подземных резервуаров. Однако до сих пор никаких примеров отчетливых вулканоподобных образований на поверхности Титана обнаружено не было. Другим объяснением может быть биологическое происхождение метана, и этот вариант вполне заслуживает рассмотрения.
В 2005 г. тот же самый Крис Маккей, который выдвинул шуточную гипотезу уникального Титана, опубликовал небольшую статью, посвященную наличию в атмосфере Титана значительного количества потенциального метаболического топлива. Одним из самых простых (и самых высокоэнергетических) способов поддержания жизнедеятельности для жителей Титана могла бы быть реакция ацетилена с водородом, при которой выделяются две молекулы метана: C2H2 + 3H2 = энергия + 2CH2. Что нужно отметить в этой реакции? Ацетилен и водород потребляются обитающими на поверхности Титана живыми организмами, и в результате выделяется метан. Хорошо, а как это согласуется с нашими измерениями количества метана в атмосфере Титана?
Возможно, вы удивитесь, но атмосферные наблюдения, выполненные «Вояджером» и «Кассини», неплохо согласуются с возможными последствиями такого простого ацетиленового метаболизма. Два исследования проливают свет на такую странную химию Титана. В первом исследовании использованы данные миссий «Вояджера» и «Кассини», которым удалось измерить количество молекулярного водорода на больших высотах, где он, предположительно, возникает в результате разложения метана под воздействием солнечного света, и рядом с поверхностью. К немалому удивлению ученых, выяснилось, что в нижних слоях атмосферы присутствует гораздо больше водорода, чем в верхних. Их удивление легко понять: мало того, что, согласно предположениям, водород производился на большой высоте над поверхностью Титана, но к тому же водород — самый легкий из всех атмосферных газов. Полученные данные указывали на то, что какая-то часть водорода из слоя высотной дымки опускается вниз (и еще примерно столько же улетучивается в космос). Так куда же этот водород девается? Он должен на что-то расходоваться, будь то на поддержание водородолюбивой жизни или, что более прозаично (но от этого не менее интересно), на осуществление какой-то химической реакции на поверхности планеты. Нам известно, что покрывающий поверхность слой органической пыли полностью лишен ацетилена. Один из наиболее распространенных побочных продуктов разложения атмосферного метана под воздействием солнечного света, ацетилен, должен постоянно выпадать на поверхность Титана. Однако приборы «Кассини» не обнаружили его следов в спектре отраженного от поверхности света.
Так можно ли считать это неопровержимым доказательством существования ацетиленоядных микробов, нежащихся на окутанных туманной дымкой берегах титанианских озер? Разумеется, нет. Прежде чем делать вывод о существовании жизни, хороший астробиолог должен исключить все прочие причины наблюдаемых явлений. Возможно, ответственность за судьбу опускающегося вниз молекулярного водорода и за отсутствие ацетилена лежит на каком-то одном химическом процессе. Это может быть какая-то небиологическая поверхностная реакция с участием ацетилена и водорода, в результате которой синтезируются новые органические вещества, и в связи с этим стоит заметить, что большая часть поверхности Титана покрыта органическим дегтем неизвестного химического состава.
Однако косвенные указания остаются убедительными. Живые существа не выйдут встречать наш космический корабль и не прильнут к окулярам телескопов. Тем не менее можно не сомневаться, что нас там ждут загадки, аномалии, необъяснимые явления. Возможное присутствие метана на Марсе, таинственное исчезновение ацетилена и водорода рядом с поверхностью Титана — вот те указания на присутствие жизни, которые мы обнаружили, и нам же будет хуже, если мы оставим их без внимания. Перед нами стоит задача подробно изучить химию Титана, и для ее решения нам непременно нужно там побывать.
Экспедиция на Титан: продержаться на плаву
С учетом того, что мы знаем о Титане, а также того, что нам по-прежнему неизвестно, — какие научные эксперименты следует провести будущей экспедиции на Титан? Как будет выглядеть космический корабль? Какие технологии нам понадобятся для достижения своих целей? На настоящий момент разрабатывается несколько миссий, но, к сожалению, все они находятся в полузаброшенном состоянии — никто не говорит, что они не нужны, но потребность в них не настолько велика, чтобы выделять под это финансирование.
Сможем ли мы когда-нибудь преодолеть темную полосу финансовых неурядиц, постигших НАСА и ЕКА, и выйти на залитые солнцем просторы, на которых нас ожидает экспедиция к Титану? Несомненно! Это вполне по силам тем, кто отстаивает Титан в качестве главной цели для нашей следующей флагманской миссии во внешнюю Солнечную систему. Основополагающие принципы будущей экспедиции к Титану были разработаны в рамках проекта «Миссия к системе Титан — Сатурн» (TSSM). Планируется, что космический аппарат достигнет окрестностей Сатурна, совершит несколько пролетов на небольшом расстоянии от Титана и Энцелада, а затем выйдет на стационарную орбиту вокруг Титана, откуда спустит в атмосферу спутника два автоматических зонда.
Первый зонд будет нести 600 кг научной аппаратуры, которая будет располагаться в гондоле аэростата (НАСА и ЕКА в анонсе миссии романтически именуют его «монгольфьером»). Это исключительно смелый, но вместе с тем остроумный план, который должен сработать в холодной и плотной атмосфере Титана. Излишки тепла от находящегося на борту радиоизотопного термоэлектрического генератора позволят постоянно подогревать воздух в шаре. Планируется, что срок службы аппарата составит 6 месяцев. За это время циркулирующие на Титане ветры пронесут десятиметровый воздушный шар вокруг всего спутника на высоте 10 км9. Основная научная задача зонда на воздушном шаре — съемка поверхности с недоступными для орбитальных аппаратов разрешением и длиной волны, как, например, широкоугольные снимки с разрешением до 1 м. Зонд будет отбирать образцы атмосферы и с помощью масс-спектрометра анализировать, насколько они различаются по химическому составу в зависимости от места. Это будет величайший полет на аэростате из всех, которые когда-либо знало человечество.
Второй аппарат должен будет опуститься на одно из больших титанианских озер и в дальнейшем плавать по его поверхности. Это будет целая химическая лаборатория, оснащенная масс-спектрометром, способным определять размер и состав молекул, содержащих до 10 000 атомов. Фонарь и фотокамера будут, соответственно, освещать и делать снимки поверхности озера. Время работы этого посадочного модуля будет ограниченно, поскольку вместо дорогостоящего плутониевого источника энергии на спускаемом модуле предполагается разместить химические батареи. С нормативным сроком службы батареи 9 часов, из которых 6 уйдет на спуск к поверхности, у зонда остается только 3 часа на анализ жидких углеводородов, составляющих титанианские озера.
В первую очередь, миссия Титан — Сатурн посвящена химическим исследованиям: она опишет химический состав титанианской атмосферы и озер и, я уверен, подарит нам немало сюрпризов. Обнаружит ли эта экспедиция жизнь? Только если мы возьмем на себя смелость утверждать, что любые упорядоченные молекулы — это и есть жизнь. Однако она вполне может обнаружить сырье, которое эта жизнь, если она все-таки есть, потребляет и перерабатывает.
Если бы вы, в духе этой книги, планировали исследовательскую экспедицию к Титану, устроили бы вас такие цели или бы вы постарались пройти чуть дальше? Если вы действительно стремитесь к великим целям, то, непременно, захотели бы включить в программу экспедиции на Титан биологические эксперименты, аналогичные тем, что были проделаны миссией «Викинга». Вы могли бы попробовать предсказать какие-то отличительные черты титанианского метаболизма и запланировать соответствующие химические эксперименты. Но экспедиция «Викинга» научила нас, что до тех пор, пока у вас не будет общего понимания химических процессов, протекающих в интересующей вас среде, результаты ваших опытов будут в лучшем случае давать неоднозначный ответ относительно присутствия жизни. Из-за бюджетных ограничений в программу «Викинга» не был включен эксперимент, получивший название «ловушка Вольфа» в честь своего создателя Вольфа Вишняка. Его идея заключалась в том, чтобы добавить марсианскую почву в колбу с водой и измерить степень ее помутнения, вызванного бактериальным ростом. Такие «Волчьи капканы» — стандартный инструмент, применяющийся в биологических исследованиях сухих долин в Антарктиде. Это простая и остроумная идея: «Я расту, значит, я существую», и ее вполне можно применить для определения бактериального роста в озерах Титана, только образец надо добавлять к пробирке с жидким метаном, а не с водой.
Полагаю, старая поговорка «Увидеть — значит поверить» будет важным аргументом в пользу оснащения зонда инструментами для микрофотосъемки, которые позволят точно определить, какие потенциальные биологические объекты присутствуют в «водах» озера. Нам нравится представлять себе момент научного открытия, когда ребенок впервые смотрит в микроскоп на каплю воды и обнаруживает в ней множество крошечных живых существ. Но только вообразите, какие необыкновенные открытия нам предстоят, если мы оснастим титанианский посадочный модуль мощным электронным микроскопом! Возможно, нам придется попотеть над подготовкой образцов для анализа, но полученные таким образом микроснимки и замедленная съемка позволят сразу же сделать выводы о наличии клеточной жизни.
С учетом этих ограничений и неопределенностей, почему я не уговариваю вас проникнуться энтузиазмом и запустить к Титану миссию по доставке образцов? Ведь для нас это действительно важно! Да, конечно, однако на это потребуется невероятное количество денег. По сравнению с доставкой образцов с Титана аналогичная миссия на Марс покажется детской забавой. Поэтому придется работать с тем, что у нас есть, а это $4 млрд или около того. На эти деньги можно отправить только экспедицию типа TSSM, которая по нынешним расценкам обойдется в $2,5 млрд.
Не уходи смиренно в сумрак вечной тьмы
Совершив 12 ноября 1979 г. пролет мимо Титана, «Вояджер-1» лишился возможности сблизиться с какой-либо еще планетой Солнечной системы. Не желая упустить возможность пройти на малом расстоянии от Титана, центр управления полетом изменил траекторию «Вояджера-1», и после сближения со спутником крохотный зонд вышел из плоскости эклиптики и начал удаляться за пределы Солнечной системы. Следовавший за ним по пятам «Вояджер-2» сблизился с Сатурном 25 августа, однако, в отличие от предшественника, продолжил движение по первоначальному курсу, что позволило ему в дальнейшем достичь Урана и Нептуна.
Какая судьба ожидает эти космические аппараты? Оба «Вояджера» сейчас проходят через турбулентный регион Солнечной системы, именуемый гелиопаузой, — область, где давление частиц солнечного ветра уравновешивается давлением межзвездной среды. Некоторые журналисты называют эту область «границей Солнечной системы». На самом деле это лишь первая из нескольких промежуточных точек на нашем пути.
«Вояджер-1» движется со скоростью 56 000 км/ч, или 3 а. е. в год10. Он покинет область гелиопаузы и примерно через 1000 лет войдет в облако Оорта — неизведанное и невидимое царство древних комет. Примерно на полпути до ближайших звезд зонд выйдет за пределы гравитационного воздействия Солнца и присоединится к веренице звезд, вращающихся по своим орбитам в нашей Галактике. В конце концов через 90 000 лет оба зонда преодолеют расстояние до ближайшей к нам звездной системы — Альфа Центавра, расположенной в 4,3 световых года от Солнца11.
Мы делаем лишь первые шаги в далекий мир. Позволят ли новые технологии догнать и перегнать «Вояджер-1» на его пути к ближайшим звездам? Будем ли мы существовать через 90 000 лет как биологический вид? Удастся ли нам возмужать и преодолеть все болезни роста? Это, конечно, непростые вопросы. Пока расстояние даже до ближайших звезд невероятно велико по сравнению с нашими сегодняшними возможностями звездоплавания. Тем не менее именно на эти звезды нам предстоит обратить свое внимание и использовать астрономические наблюдения, а не космические аппараты для изучения их планетных систем и условий для существования жизни.
1 Чудесная цитата из Овидия «Они сделали далекие звезды ближе» плюс случайный набор букв — технически это можно назвать анаграммой, хотя очки снимаются за незанятые буквы в конце. Честно говоря, первое, что приходит мне в голову, чтобы зашифровать фразу «Saturn has a moon!», — это «Hot roman saunas!».
2 Не зная, как назвать коричневую липкую субстанцию, произведенную в ходе попыток воспроизвести органическую химию Титана, Саган и Харе решили остановиться на слове «толины» (от греческого Φολας — грязный) — древний термин для липкой коричневой массы.
3 Солнечный ветер состоит из электрически заряженных частиц, преимущественно протонов, которые отражаются магнитным полем Сатурна. Фотоны электрически нейтральны и не подвержены воздействию магнетизма.
4 Один ученый из ЕКА сравнил это с посадкой в крем-брюле. Мне очень нравится такое сравнение.
5 Тот факт, что радарные измерения «Кассини» могут проникать на такие большие глубины, указывает, что эти озера полностью состоят из метана.
6 Остается вопрос, куда именно нужно посылать следующую миссию.
7 От англ. folding — свертывание. Спонтанный физический процесс, в котором полипептидная молекула сворачивается в характерную для данного белка трехмерную структуру. — Прим. ред.
8 Это достигается очень остроумным способом — частицы заряженного газа заключаются в статически заряженный объем, или, другими словами, электрически заряженную проволочную клетку. Электрическое отталкивание между проволокой и частицами газа не дает ему распространяться за пределы этого объема.
9 Со скоростью приблизительно 1–2 м/с.
10 А. е. — астрономическая единица — единица измерения расстояний, приблизительно равная среднему расстоянию от Земли до Солнца.
11 Хотя на самом деле «Вояджеры» направляются не к Альфе Центавра, в познавательных целях будем считать конечной целью их полета нашу ближайшую звездную систему.
-
Опечатка в тексте:
C2H2 + 3H2 = энергия + 2CH2.
Надо:
C2H2 + 3H2 = энергия + 2CH4.
Про ацетилен на Титане - авторы в курсе, что там у ацетилена не может быть жидкой фазы, а в твёрдом виде он взрывается?
Про бОльшую концентрацию водорода в низших слоях атмосферы - может быть, он просто из верхних улетучивается в космос?
Поиски внеземного разума
-
 09.05.2025А где все?Вячеслав Авдеев • Библиотека • «Троицкий вариант» №6(425), 2025
09.05.2025А где все?Вячеслав Авдеев • Библиотека • «Троицкий вариант» №6(425), 2025
-
 30.09.2019«Все выдумки не стоят естества...»Павел Амнуэль • Библиотека • «Наука и жизнь» №7, 2019
30.09.2019«Все выдумки не стоят естества...»Павел Амнуэль • Библиотека • «Наука и жизнь» №7, 2019
-
 17.09.2019Инопланетные слоны — какие они?Андрей Силенгинский • Библиотека • «Наука и жизнь» №6, 2019
17.09.2019Инопланетные слоны — какие они?Андрей Силенгинский • Библиотека • «Наука и жизнь» №6, 2019
-
 16.06.2018«Все эти миры — ваши». Глава из книгиДжон Уиллис • Книжный клуб • Главы
16.06.2018«Все эти миры — ваши». Глава из книгиДжон Уиллис • Книжный клуб • Главы
-
 26.05.2018Землянам, до востребованияМихаил Котов • Библиотека • «Популярная механика» №3, 2018
26.05.2018Землянам, до востребованияМихаил Котов • Библиотека • «Популярная механика» №3, 2018
-
 27.12.2017«Одиноки ли мы во Вселенной». Главы из книгиАндреа Селла, Мэтью Кобб • Книжный клуб • Главы
27.12.2017«Одиноки ли мы во Вселенной». Главы из книгиАндреа Селла, Мэтью Кобб • Книжный клуб • Главы
-
 25.10.2017Мисс Белл и инопланетяне: история открытия пульсаровВиталий Мацарский • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(238), 2017
25.10.2017Мисс Белл и инопланетяне: история открытия пульсаровВиталий Мацарский • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(238), 2017
-
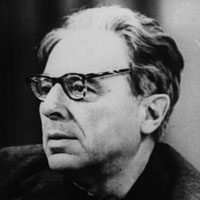 17.04.2017Сказка об астрономе Иосифе Шкловском и об инопланетных цивилизацияхНик. Горькавый • Библиотека • «Наука и жизнь» №11, 2016
17.04.2017Сказка об астрономе Иосифе Шкловском и об инопланетных цивилизацияхНик. Горькавый • Библиотека • «Наука и жизнь» №11, 2016
-
 30.07.2016Взглянуть инопланетянам в глазаДмитрий Мамонтов • Библиотека • «Популярная механика» №6, 2016
30.07.2016Взглянуть инопланетянам в глазаДмитрий Мамонтов • Библиотека • «Популярная механика» №6, 2016
-
 13.07.2016Полет на Луну — это командировка на неделюИнтервью Ольги Орловой с Владимиром Сурдиным • Библиотека • «Троицкий вариант» №13(207), 2016
13.07.2016Полет на Луну — это командировка на неделюИнтервью Ольги Орловой с Владимиром Сурдиным • Библиотека • «Троицкий вариант» №13(207), 2016












