Эволюционные корни леммингов ведут на юг Сибири
Неизвестная ранее стадия эволюции настоящих леммингов (Lemmus) описана по находкам из отложений начала верхнего плиоцена Западной Сибири. Пробел в эволюционной истории закрыл вид, названный Tobienia fejfari. Несмотря на то что этот вид описан всего по четырем зубам, удалось установить, что он сочетает признаки примитивных ранних полёвок и леммингов современного облика — экологических доминантов тундровых и тундростепных ландшафтов Северного полушария. Эти находки фиксируют продвинутую стадию эволюции зубов леммингов перед потерей корней и переходом к неограниченному росту. Новое открытие вносит свой вклад в наши знания о ранних стадиях формирования фауны млекопитающих высоких широт Евразии.
Так сложилось, что интерес к тем или иным представителям доисторической фауны Земли прямо пропорционален размерам этих животных. Заслуженные места в пантеоне любимых детьми и взрослыми существ занимают гигантские динозавры, а из числа млекопитающих — мамонты, шерстистые носороги, гигантские ленивцы, пещерные львы и прочие виды плейстоценовой мегафауны. Даже среди не достигающих таких внушительных габаритов беспозвоночных любовью и обожанием пользуются аномалокарисы и ракоскорпионы, а не остракоды и улитки. Тем не менее в большинстве экосистем «карлики» превосходили «гигантов» разнообразием и во всех — численностью. Это делает остатки именно небольших существ, а не многотонных «звезд масс-медиа», незаменимым инструментом биостратиграфии и палеоэкологии.
Не являются исключением и фауны длящегося по сей день четвертичного периода, большую часть которого составляет начавшаяся около 2,6 млн лет назад и завершившаяся около 12 тысяч лет назад плейстоценовая эпоха, часто называемая ледниковым периодом, хотя на протяжении плейстоцена друг друга сменяли холодные и теплые фазы разной длительности и интенсивности. Плейстоцен сменился голоценовой эпохой, очередной теплой фазой этой череды, но наиболее полно изученной и особо важной для становления цивилизации. К концу плейстоцена на пространствах Северной Евразии, большей части Палеарктической зоогеографической области, обитала так называемая мамонтовая фауна. Она была результатом длительного развития сообществ позвоночных в условиях в среднем все более холодного и сухого климата, а ее осколки стали источником формирования современных фаун континента.
Наиболее многочисленными крупными млекопитающими мамонтовой фауны были, как правило стадные, копытные степей и тундры (бизон, лошадь, шерстистый носорог, северный олень и многие другие), хоботные (собственно мамонты) и хищные. В это же время среди мелких млекопитающих тотально доминировали полёвки (подсемейство Arvicolinae) — продвинутые представители семейства хомячьих (Cricetidae), часто выделяемые в отдельное семейство. Их доминирование в сообществах мелких млекопитающих продолжается и по сей день. В современной фауне одной только Палеарктики насчитывается более ста видов полёвок, среди которых только ондатра является недавним вынужденным переселенцем (была интродуцирована из Северной Америки в первой половине прошлого века), тогда как другие имеют длительную предысторию в самой Евразии (А.С. Тесаков, 2004. Биостратиграфия среднего плиоцена — эоплейстоцена Восточной Европы (по мелким млекопитающим); N. Abramson et al., 2021. A mitochondrial genome phylogeny of voles and lemmings (Rodentia: Arvicolinae): Evolutionary and taxonomic implications). Одни роды и виды полёвок распространены локально на склонах отдельных горных систем, другие — от Атлантического до Тихого океана. Одни полёвки освоили степи, другие тундры, третьи — леса умеренного пояса. Некоторые предпочитают жить у водоемов.
Так же как многим копытным и хоботным открытых ландшафтов, полёвкам пришлось приспосабливаться к питанию преимущественно вегетативными частями травянистых растений, что и позволило всем им в итоге достигнуть большой численности и биомассы, освоить биотопы с экстремальными условиями обитания. Важнейшим условием для этого стала гипсодонтность щечных (предкоренных и коренных зубов) — то есть значительное увеличение их высоты. Логика тут проста: скорость стирания зуба о пыльную, жесткую, зачастую богатую соединениями кремния траву выше, чем о листву деревьев или плоды и семена, которыми к тому же можно быстро наесться, тогда как травы для получения того же количества энергии приходится пережевать намного больше. Поэтому для питания травой необходимо иметь высокие, иногда похожие на столбики зубы, которых хватит на всю жизнь. Пределом же роста зубов служит момент замыкания пульпарной полости зуба и формирования корней. Поэтому в идеале травоядному животному нужно иметь зубы вообще без корней, растущие всю жизнь. Такие зубы называются гипселодонтными или аризодонтными.
Гипселодонтные зубы редки среди крупных млекопитающих. Так, среди плейстоценовых обитателей Евразии ими обзавелся только носорог эласмотерий. В то же время гипселодонтные коренные зубы есть у всех современных зайцеобразных и многих грызунов. У полёвок гипселодонтными зубы становились независимо в нескольких эволюционных линиях, что можно считать примером эволюционного параллелизма. Становление полёвочьей морфологии коренных зубов начинается в позднем миоцене.
Первые настоящие полёвки рода Prosomys появляются в геологической летописи Евразии около 6,5 млн лет назад (O. Fejfar et al., 2011. Microtoid cricetids and the early history of arvicolids (Mammalia, Rodentia)). Коронки их зубов еще низки, корни мощны, эмаль примитивна, количество напоминающих треугольные призмы структурных элементов зуба мало. Зубы большинства современных полёвок не имеют корней, они высоки, удлинены за счет добавления новых призм, их эмаль модифицирована за счет изменения толщины и кристаллической структуры (рис. 2). Эмаль продвинутых полёвок часто имеет вертикальные разрывы — дентиновые тракты, а между призм у многих из них откладывается относительно рыхлый материал — цемент, дополнительно укрепляющий зуб (А. В. Бородин, 2009. Определитель зубов полёвок Урала и Западной Сибири (поздний плейстоцен — современность)). Обильные, разнообразные и хорошо определимые зубы полёвок являются важнейшими руководящими ископаемыми континентальных отложений последних нескольких миллионов лет. Знания об эволюции и палеоэкологии полёвок почти целиком основаны на изучении их коренных зубов, нижних и (реже) верхних челюстей. Прочие элементы их скелета либо слишком хрупки и плохо сохраняются, либо, как правило, не очень информативны. Зато зубы — коренные и резцы — могут встречаться на одном местонахождении многими десятками, сотнями или даже тысячами.

Рис. 2. Слева — основные структурные элементы коренного зуба корнезубой полёвки на примере первого нижнего коренного зуба ондатры (Ondatra zibethicus). Справа — первый нижний коренной зуб некорнезубой полёвки на примере водяной полёвки (Arvicola amphibius): a — жевательная поверхность, b — боковая (буккальная) проекция, c — вид снизу, d — передне-задняя проекция. Рисунки из книги А. В. Бородин, 2009. Определитель зубов полёвок Урала и Западной Сибири (поздний плейстоцен — современность)
Первыми полёвками, потерявшими корни, были настоящие лемминги трибы Lemmini. К ней относятся два современных евразийских рода (Myopus и Lemmus, представители второго из них встречаются и в Северной Америке) и два современных североамериканских (Synaptomys и Mictomys, который, правда, не всегда признается самостоятельным). Копытные лемминги (Dicrostonyx) настоящим леммингам близкими родственниками при этом вовсе не являются и относятся к другой трибе.
Даже современный ареал леммин огромен: от Норвегии до Чукотки, от Таймыра до Амура в Старом свете, от Аляски до Канзаса — в Новом. В ледниковые фазы плейстоцена ареал леммингов расширялся еще сильнее, достигая Франции, Нижнего Поволжья и Флориды. Совершенно справедливо для плейстоцена они считаются индикаторами холодного климата. Жить они предпочитают на болотах, таежных лесах и тундре, где часто доминируют среди мелких млекопитающих. В тундре они являются одними из главных потребителей зеленой массы и одним из главных кормов для самых разнообразных хищных птиц и млекопитающих. Без сомнения, настоящих леммингов можно отнести к ключевым видам арктических и субарктических экосистем плейстоцена и современности.

Рис. 3. Схематическая карта распространения современных и ископаемых леммин в Евразии. Цвет заливки ареала: 1 — современное распространение рода Lemmus, 2 — современное распространение рода Myopus, 3 — совместное современное распространение родов Lemmus и Myopus, 4 — южная граница распространения леммин в среднем и позднем плейстоцене. Символы таксонов: звезда — Tobienia, ромб — Plioctomys, круг — Lemmus. Символы хронологических этапов: красный цвет — конец раннего плиоцена, оранжевый — начало позднего плиоцена, желтый — конец позднего плиоцена, зеленый и синий — стадии раннего плейстоцена. Местонахождение Нижний Розовский — точка №19. Изображение из презентации А. С. Тесаков, А. А. Бондарев, 2022. «Первая находка корнезубых леммингов (Lemmini) в плиоцене России»
Остатки древнейших некорнезубых леммин уже давно находили в Центральной Европе и Поволжье в отложениях возрастом около 3 млн лет. Тогдашние лемминги рода Plioctomys столь же высокозубы и некорнезубы как их современные потомки, которые отличаются от своего предка оптимизированными и специализированными для питания мхами и осоками рисунками жевательной поверхности. С тех пор скорость эволюции зубов леммин оставалась невысокой относительно других линий полёвок.
Долгое время предок некорнезубых настоящих леммингов оставался неизвестен, тогда как для прочих современных некорнезубых полёвок эволюционная последовательность предков была хорошо или хотя бы более-менее прилично отслежена. Выходило, что один из важнейших элементов экосистем плейстоценовых и современных тундр появился внезапно как чертик из табакерки. Так было до тех пор, как в 1998 году Олдржих Фейфар (Oldrich Fejfar) и Чарльз Репеннинг (Charles A. Repenning) не описали найденный в отложениях местонахождения Вольферсгейм (Германия) конца раннего плиоцена (немногим больше 3,6 млн лет назад) новый род и вид корнезубых полёвок — Tobienia kretzoii (O. Fejfar, C. Repenning, 1998. The ancestors of the lemmings (Lemmini, Arvicolinae, Cricetidae, Rodentia) in the early Pliocene of Wölfersheim near Frankfurt am Main; Germany). Зубы тобении были низки, имели корни, невысокие дентиновые тракты, почти не имели цемента, а их эмаль была еще слабо специализирована. На современных леммин она отдаленно похожа по рисунку жевательной поверхности. Авторы предположили, что тобения является родственником именно североамериканских леммин из-за немного большего сходства рисунка жевательной поверхности именно с ними. Для леммингов Старого света они предполагали наличие особой эволюционной линии. Tobienia kretzoii жила в одной экосистеме с мастодонтами, тапирами, красными пандами, летягами и потому явно не была обитателем тундры.
В любом случае, между известным предполагаемым корнезубым предком и полноценными леммингами оставался немалый по меркам биостратиграфии плиоцена и плейстоцена хронологический зазор и огромный — морфологический. Да и Tobienia kretzoii в других уголках земного шара за двадцать лет так больше никто и не нашел.
В качестве аналогии можно представить, будто бы из числа ископаемых гоминин (Hominini — триба, включающая человека и его самых близких родственников из числа гоминид) нам были бы известны лишь представители рода Homo, со всеми вариациями и в большом количестве, и сахелантроп. В промежутке мы бы не имели никаких австралопитеков, парантропов и ардипитеков, а лишь предполагали, что там произошли некоторые масштабные эволюционные преобразования. Не очень-то красиво!
Можно, конечно, и так представить, каким было промежуточное звено между примитивной тобенией и некорнезубыми леммингами современного типа. У этого существа должна была быть очень высокая коронка зуба, высокие дентиновые тракты, у него должен был накапливаться цемент в умеренном количестве, да и структура эмали у него тоже должна была быть вполне определенного, леммингового, типа, хотя, наверно, не такая совершенная как у нынешних леммингов. Процесс эволюции всех этих признаков был описан раньше у прочих линий некорнезубых полёвок, но у всех них он достиг апогея позже, чем это должно было случиться у леммингов. Жить это существо должно было где-то в начале позднего плиоцена, 3–3,6 млн лет назад, в одно время с кениантропами, афарскими и бахр-эль-газальскими австралопитеками, когда млекопитающим многих эволюционных линий приходилось адаптироваться к открытым травянистым лугово-болотным ландшафтам. Одновременно в рост устремились зубы слонов, антилоп и других крупных травоядных.
Наконец, недостающее звено эволюции леммингов было найдено на юге Западной Сибири, в местонахождении Нижний Розовский в Горьковском районе Омской области (рис. 4). Описание четырех зубов этого существа было опубликовано в недавнем выпуске Journal of Vertebrate Paleontology. Существо, названное в честь первооткрывателя рода чешского палеозоолога О. Фейфара Tobienia feifari, было найдено в ходе продолжающегося исследования отложений позднего кайнозоя под эгидой Геологического института РАН и Омского регионального отделения Русского географического общества, при участии специалистов из других исследовательских организаций и волонтеров. Палеонтологическая летопись позднего кайнозоя юга Западной Сибири отличается отменной полнотой и позволяет детально проследить эволюцию природной среды на протяжении нескольких миллионов лет.
Остатки пра-лемминга были найдены при промывке отложений небольшой древней реки, насыщенных остатками моллюсков и позвоночных: более тридцати видов крупных и мелких млекопитающих, амфибий, рептилий, рыб и даже птиц. Имеющие корни зубы, впоследствии описанные как типовые экземпляры Tobienia feifari, привлекли внимание своей из ряда вон выходящей для полёвок середины плиоценовой эпохи высотой. Более тщательное их рассмотрение выявило весь ансамбль признаков, которые можно было бы ожидать для непосредственного предшественника некорнезубых леммингов: устремленные ввысь дентиновые тракты, солидные бляшки цемента, а при взгляде в электронный микроскоп — и характерную для леммингов эмаль (рис. 5). Рисунок жевательной поверхности при этом оказался вполне подходящим для предков как евразийских, так и американских леммингов. Другая ископаемая полёвка, руководящее ископаемое Mimomys hajnackensis, позволила определить возраст фауны — начало позднего плиоцена, около 3,5 млн лет назад. Это на несколько сотен тысяч лет моложе Вольферсгейма и Tobienia kretzoii и на несколько сотен тысяч лет древнее некорнезубых леммингов Plioctomys. Паззл сложился. Существо, которое могло быть предсказано при сопоставлении примитивной полёвки из раннего плиоцена Германии и лемминга из современной тундры нашлось в овраге на задворках сгинувшего сибирского села.

Рис. 5. Зубы Tobienia feifari, сканирующая электронная микроскопия. Рисунок из обсуждаемой статьи в Journal of Vertebrate Paleontology
Судя по составу фауны Нижнего Розовского, среда обитания Tobienia feifari вовсе не походила на тундру: здесь жили разнообразные насекомоядные млекопитающие и амфибии, характерные для теплоумеренного климата. Обращает на себя внимание, например, находка древесной лягушки-квакши. Вместе с ними встречались примитивнейшие родственники пеструшек — степных полёвок, представленных в современной фауне России родом Lagurus. Подобное сочетание в одном сообществе леммингов и степных пеструшек в плейстоцене считается индикатором тундростепных ландшафтов (см. Последний ледниковый максимум повлиял на трофическую структуру сообществ животных, обитавших в мамонтовых степях, «Элементы», 16.06.2013). По всей видимости, древнейшие лемминги обитали на заболоченных участках ландшафтной мозаики — так же, как и современные лемминги таежной зоны, питающиеся мхами и осоками.
Можно прийти к выводу, что эволюция древнейших леммин проходила в средних широтах Европы и (как минимум Западной) Сибири, но наверняка это был не весь их ареал. К сожалению, крайний север и Европы, и Сибири для этой эпохи остается белым пятном относительно фаун млекопитающих, так что роль, например, Берингии в становлении леммингов на первых стадиях их эволюции остается неизвестной. Но вот связать их происхождение с Центральной Азией (как шерстистых носорогов, яков, баранов и снежных барсов; см. Шерстистые носороги пришли с Тибета, «Элементы», 06.09.2011) при такой географии находок точно не получится. Чуть позже настоящие лемминги встретятся на остывающих северных пределах Евразии с выходцами из Америки — леммингами копытными — и поделят с ними биотопы: более влажные останутся за аборигенами, более сухие достанутся пришельцам. Фиксация времени существования общего предка всех современных леммин будет полезна и для калибровки молекулярно-генетических деревьев всех полёвок.
Таким образом, находка всего четырех — и при этом даже не самых целых — «мышиных» зубов прояснила многое в вопросе становления плейстоценовых и современных экосистем северной Евразии. Но многое предстоит еще узнать, исследуя находки из склонов сибирских оврагов.
Источник: Alexey Tesakov, Alexey Bondarev. Down to the roots of lemmings: a new species of basal lemming from the upper Pliocene of West Siberia // Journal of Vertebrate Paleontology. 2022. DOI: 10.1080/02724634.2021.2036173.
Алексей Бондарев
Последние новости



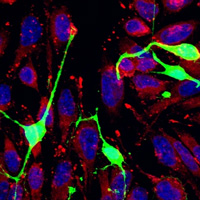



















Рис. 1. Современный норвежский лемминг (Lemmus lemmus). Фото с сайта en.wikipedia.org