Фриц Габер: окончание
Марина Молчанова
«Квантик» №5, 2023
Окончание. Начало — в предыдущем номере
Война
Есть распространённое мнение, что если бы не открытие Габера, то, возможно, Первая мировая война не случилась бы или завершилась бы сравнительно быстро. Ведь ещё в самом её начале Германия в ходе военных действий была отрезана от чилийских месторождений селитры — и только собственная химическая промышленность позволяла ей производить нужное количество боеприпасов. Вспомним: без азота невозможно масштабное производство взрывчатых веществ.

Но Габер внёс и личный сознательный вклад в эту войну. Который, увы, оказался роковым и для тысяч её участников, и для его собственной репутации.
С самого начала Габер полностью поддерживал свою страну — Германию. Так, он был одним из подписавших печально известный «манифест девяноста трёх» — документ, который полностью оправдывал действия Германии в войне, включая нападение на нейтральную Бельгию и связанные с ним разрушения и жертвы.
«Неправда, что мы нагло нарушили нейтралитет Бельгии... Неправда, что наши солдаты посягнули на жизнь хотя бы одного бельгийского гражданина и его имущество, если это не диктовалось самой крайней необходимостью... Против бешеных обывателей, которые коварно нападали на них в квартирах, [наши войска] с тяжёлым сердцем были вынуждены в ответ применить обстрел части города... Выступать защитниками европейской цивилизации меньше всего имеют право те, которые объединились с русскими и сербами и дают всему миру позорное зрелище натравливания монголов и негров на белую расу...»
(Впоследствии многие немецкие интеллектуалы, подписавшие этот документ, сожалели об этом. Но Габер не стал отзывать свою подпись.)

Сёстры милосердия помогают российским солдатам, отравленным газами, 1915
Однако письмо, в конце концов, — это только письмо. К сожалению, в случае Габера всё было гораздо хуже: он стал одной из ключевых фигур в разработке и применении химического оружия — первого в истории оружия массового поражения.

Лица химической войны. Австралийская пехота под Ипром, 1917
Применение отравляющих газов стало одной из самых чёрных страниц Первой мировой войны. Здесь отметились обе воюющие стороны, и, если честно, первой начала Франция, попытавшись (впрочем, практически безуспешно) применить слезоточивый газ. А вот начало массового применения химического оружия именно для убийства солдат противника — это уже была «заслуга» немецкой армии и лично Габера. Действительно, Габер не только руководил коллективом химиков, которые разрабатывали способы атаки на вражеские окопы с использованием хлора, но и лично ездил на фронт, чтобы проконтролировать, насколько эффективны эти способы. Впрочем, под его же руководством разрабатывались и способы защиты от отравляющих газов — маски и фильтры.

Габер в лаборатории, 1905
Сожалел ли впоследствии Габер о своём участии в химической войне? Видимо, нет. Он говорил: чем отравляющий газ так уж хуже летящих кусков железа? Наоборот, лучше: нет раненых и искалеченных. (Впрочем, он тогда не мог знать о долгосрочных последствиях газовых отравлений для здоровья. Или, скорее, не хотел знать.) А вот для многих учёных и обычных людей из других стран Габер после этого стал символом злодейств, которых во время той войны хватало.
Тем не менее в 1918 году ему всё же была присуждена Нобелевская премия. Конечно, за синтез аммиака: не отметить это достижение было немыслимо. Бош получил свою премию позже, в 1931 году.
Годы войны были отмечены для Габера ещё и личной трагедией (увы, не первой и не последней в его семье): покончила с собой его первая жена, талантливый химик Клара Иммервар. Это произошло в 1915 году, как раз тогда, когда её муж ездил на фронт организовывать химические атаки...
Закат

Клара Иммервар, первая жена Габера
После поражения Германии в войне Габер продолжал активную научную работу. Однако его исследования 20-х годов XX века были уже не столь громкими. Так, у него была идея добывать золото из морской воды — но спустя годы Габер вынужден был признать, что это нецелесообразно, золота в ней слишком мало.
Была и ещё одна разработка, впоследствии печально знаменитая, хотя уже не по вине самого Габера. Под его руководством был изобретён «Циклон А» — ядовитое вещество, которое использовалось для уничтожения насекомых. Впоследствии на его основе был создан «Циклон Б», который во время Второй мировой войны нацисты использовали в лагерях для уничтожения людей, и среди жертв были дальние родственники самого Габера...
Но до этого он не дожил.

Джон Сарджент. Картина «Отравленные газами», 1919
Когда в 1933 году Гитлер пришёл к власти, никакие заслуги перед страной не могли защитить Габера. Он был евреем по крови, он не любил и опасался нацистов — и его присутствие в немецкой науке в одночасье стало нежелательным.
Альберт Эйнштейн, с которым Габер был дружен, называл жизнь Габера «трагедией неразделённой любви», любви к родине. Всё хорошее и дурное, что Габер сделал в течение своей жизни, было так или иначе во славу Германии. Но Германия его отвергла — из-за его происхождения. И он был полностью сломлен.

Нобелевский диплом Фрица Габера
Самого Габера, правда, формально не тронули, но это и не потребовалось. Он был вынужден уволить всех сотрудников-евреев и с полным основанием опасался за безопасность своих родных. Заступничество крупнейших немецких учёных не помогло. Фактически ему оставалось одно: устроить будущее своих подчинённых за рубежом — и уехать самому.

Габер на лекции
Вскоре он написал заявление о своём уходе с должности директора Института физической химии и электрохимии Общества кайзера Вильгельма. И в августе 1933 года покинул Германию. В это время он уже тяжёло болел — сердце.
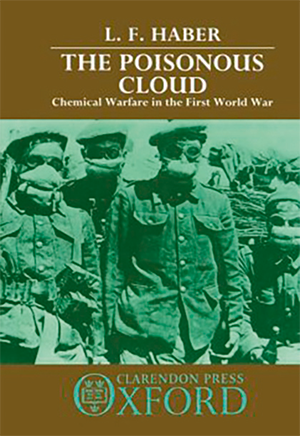
Книга «Ядовитое облако»
Коллеги из других стран отнеслись к Габеру по-разному. Некоторые крупнейшие европейские физики и химики не стали сводить старые счёты — наоборот, помогли ему уехать из Германии и найти работу. А вот когда Габер приехал в Англию, великий Эрнест Резерфорд публично отказался пожать ему руку. Память о химической войне и её жертвах, в том числе среди англичан, ещё была слишком свежа.
Там, в Англии, Габер написал свою последнюю статью и прочёл свою последнюю лекцию. Но пробыл он там недолго: Хаим Вейцман — знаменитый учёный, политик и будущий первый президент Израиля — пригласил его в Палестину, в научно-исследовательский институт в Реховоте (сейчас этот институт носит имя самого Вейцмана). Габер выехал туда и на полпути умер — в Швейцарии, в гостиничном номере в Базеле.
На кладбище в Базеле он и похоронен. В 1937 году туда же перенесли прах Клары Иммервар.

Могила Габера и его первой жены в Базеле
Судьбы потомков Габера сложились по-разному. Там было тоже немало трагедий. Но его дети от второго брака дожили почти до наших дней, и сын Людвиг, ставший известным историком, написал классическую книгу о химической войне — «Ядовитое облако».
Память

Реактор для производства аммиака. Концерн BASF
Сейчас, по оценкам, в результате процесса Габера–Боша производится более ста миллионов тонн удобрений в год. И благодаря им кормится около половины населения Земли.
Институт, в котором Габер проработал большую часть жизни, с 1953 года носит его имя. В Израиле есть Центр молекулярной динамики имени Фрица Габера. Сам Габер получил не только Нобелевскую премию, но и бесчисленные другие научные награды. Он был почётным членом многих академий наук, включая, кстати, и советскую.
Но и об участии Габера в химической войне забыть никак не получится. Вспомним: «накормил миллиарды, убил десятки тысяч». По оценкам, около 90 тысяч человек в Первую мировую войну стали жертвами отравляющих газов (больше всего — среди российских солдат) и почти миллион человек пострадали.

Институт в берлинском районе Далем, который сейчас носит имя Фрица Габера

Возможно, именно из-за этой неоднозначности о Габере долгое время почти не писали — пришлось бы обсуждать слишком неудобные вопросы. В последние десятилетия, однако, его фигура всё чаще привлекает внимание писателей и режиссеров. Одна за другой появляются статьи, пьесы, фильмы, радиопрограммы, в которых авторы пытаются осмыслить его судьбу и его историческую роль во всей её сложности.
Жизнь Габера вместила в себя все основные трагедии первой трети XX века. Но эту мрачную историю стоит знать. Хотя бы потому, что она иллюстрирует вопрос об ответственности учёного не только перед своей страной, но и перед человечеством в целом.
А этот вопрос всегда важен.
Окончание. Начало — в предыдущем номере
-
Но эту мрачную историю стоит знать.
В жизни много мрачных историй https://cyberleninka.ru/article/n/voenno-himicheskaya-promyshlennost-rossii-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny-1914-1918-k-100- letiyu-nachala-pervoy-mirovoy-voyny
Было установлено, что немцы применяли хлор, выпуская его из баллонов,
где он находился в сжиженном состоянии. В.Н. Ипатьев доложил Верховному главнокомандующему вооруженными силами России великому князю Николаю Николаевичу, что хлор в России производится на заводах в Донбассе, но на создание установок для его сжижения потребуется четыре-пять месяцев. Было решено создать специальную Комиссию по удушающим средствам, которая весьма энергично начала свою деятельность в июле 1915 г.
Анализ сложившейся ситуации показал, что необходимо изготовлять два типа удушающих веществ – для выпуска их из баллонов и для заполнения ими снарядов, предназначенных для обстрела противника в окопах или на батареях.
Под руководством П.П. Федотьева во время войны было начато строительство хлорного завода близ Лисичанска (Донбасс). Производительность завода была рассчитана на 520 пудов жидкого хлора в сутки, но до конца войны она не была достигнута.
В организации производства фосгена на целом ряде заводов России большая заслуга принадлежит профессору Московского университета Е.И. Шпитальскому. Кроме того, было налажено производство хлорпикрина, который употреблялся как удушающее средство. Им наполняли химические снаряды. Из второстепенных продуктов можно назвать производство мышьяковистых соединений... -
https://www.supotnitskiy.ru/book/book5_kommentarii31_40.htm
Всего в 1916 г., в год становления химического оружия в русской армии, русскими химическими командами было произведено 9 больших газопусков, в которых использовано 202 тонны хлора (табл. 40.1).
Россия стала на путь применения в артиллерии химических снарядов с 1916 г., изготовляя 76-мм химические гранаты двух типов:
а) удушающие (хлорпикрин с хлористым сульфурилом), действие которых вызывало раздражение дыхательных органов и глаз в такой степени, что пребывание людей в этой атмосфере было невозможно;
б) ядовитые (фосген с хлорным оловом; или венсинит, состоящий из синильной кислоты, хлороформа, хлорного мышьяка и олова), действие которых вызывало общее поражение организма и в тяжелых случаях смерть.
Избранное
См. также
























На фронте. Габер — второй слева