Полвека «перчаточной» модели
Дэниел Кошланд,
Калифорнийский университет в Беркли, США
«Химия и жизнь» №8, 2008
В середине 50-х годов я работал в Брукхейвенской национальной лаборатории (Нью-Йорк), где изучал мышечный фермент гексокиназу. Он катализирует перенос фосфатной группы с АТФ на одну из гексоз, а именно глюкозу. Эта реакция фосфорилирования протекает практически во всех организмах, поскольку служит необходимым звеном метаболизма глюкозы.
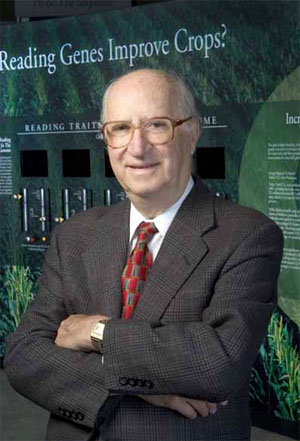
И вот, размышляя над ней, я был озадачен таким «детским» вопросом: почему вода, которая в данной реакции может служить заменителем глюкозы и которая присутствует в несравнимо большей концентрации, не становится субстратом гексокиназы? Я начал думать о роли воды вообще и пришел к заключению, что главная трудность живых систем состояла не в том, чтобы активировать воду, когда это нужно, а в том, чтобы предотвратить реакции с Н20, если они не требуются.
В те годы в области ферментативного катализа царила давно выдвинутая Эмилем Фишером (1852–1919) концепция «ключа и замка» с ее понятием «шаблона». В ней взаимодействующие молекулы рассматривали как твердые тела, причем часть одного из них служила слепком части другого (комплементарность).
Значит, рассуждал я, участвующие в реакции группы атомов фермента и субстрата уже изначально, до их контакта, должным образом ориентированы. Но ведь та химическая группа, которую несет «настоящий» субстрат, может встречаться у множества других молекул, например воды. И эти «лжесубстраты» будут занимать активные центры ферментов, что приведет к разным побочным реакциям, то есть к гибельным для живых клеток последствиям. А поскольку такой неразберихи в них не возникает — ферментам удается каким-то образом сохранять свою избирательность, — я все более склонялся к необходимости ревизии теории Фишера.
Важную эвристическую роль при разработке новых представлений сыграла пришедшая мне в голову аналогия с перчаткой: в исходном виде этот предмет туалета может быть свернут или смят и, только будучи надет на руку, совпадает с ней по форме. Я предположил, что между энзимом (эластичной перчаткой) и субстратом (умеренно податливой кистью) имеют место похожие отношения: вместо контакта жестких болванок идет взаимная подгонка лабильных молекул, при этом фермент сильно изменяет свою форму, а субстрат переходит в напряженное состояние.
Ясно, что тогда Н2O уже не сможет заменить глюкозу, поскольку маленькой молекуле воды не удастся вызвать в громоздком белке нужный конформационный переход. Снимались и другие трудности старой концепции. В общем, я был воодушевлен успехами «перчаточной» модели, которую назвал «теорией индуцированного соответствия». Теперь предстояло сделать следующий шаг — вынести ее на суд специалистов.
Я понимал, какое это рискованное дело: ведь о молодом исследователе обычно судят по его первым публикациям. Если они удачны, то его считают способным и перед ним открываются радужные перспективы. И наоборот, его дальнейшая карьера может пойти вкривь и вкось из-за одной-двух слабых работ. Но я уже настолько поверил в свою идею, можно сказать, проникся ею, что решил обязательно ее обнародовать.
Помню, сначала я сделал доклад на одной конференции. Его встретили сдержанными аплодисментами, которые я расценил просто как проявление вежливости. Когда я спросил коллегу-энзимолога, что он думает о реакции аудитории, он сказал: «Дэн, если твоя теория окажется верной, ты не сможешь утверждать, что никто из слушателей не поверил в нее».
А вот журналы отнеслись к ней неодобрительно — они возвращали мою статью с примерно такой формулировкой: «Теория Эмиля Фишера уже много лет считается основополагающей, и ее не могут опровергнуть голословные утверждения никому не известного молодого биохимика из недавно созданной лаборатории». Наконец все же нашлось издание, которое согласилось опубликовать мою работу. Выйдя в свет в 1958 году, она привлекла внимание, и я получил много приглашений обсудить ее.
Принятие теории индуцированного соответствия шло хотя и медленно, но верно. Настоящий же перелом наступил после того, как в 60-х годах методом рентгеновской кристаллографии в лабораториях Томаса Стейца (Йель) и Уильяма Липскомба (Гарвард) расшифровали фермент-субстратные комплексы гексокиназы и карбоксипептидазы. Их данные подтверждали правильность моей модели, которая прояснила и другие явления, основанные на взаимном узнавании молекул, скажем, взаимодействие гормонов с рецепторами.
Теперь, полвека спустя, когда эта теория вошла в учебники биохимии, поучительно оглянуться назад и проследить, как ересь превращалась в общепринятое знание.
Я вспоминаю возмущение, а затем подавленность, которые охватывали меня, когда очередной журнал отклонял мою рукопись. Конечно, новая гипотеза всегда встречает сопротивление. Но если она логична и проливает свет на плохо понятные факты, то должна, мне кажется, сразу получить хотя бы скромное поощрение: нужно чуть-чуть уравнять силы противоборствующих сторон.
Нестандартные подходы столь же необходимы для научного прогресса, как мутации для биологического. Впрочем, когда мутаций слишком много, они ведут к вырождению, о чем говорят эксперименты с особо подверженными мутагенезу линиями бактерий. Поэтому должны быть и ограничения, которые дадут возможность отобрать редкие полезные новшества.
В научной сфере отделять зерна от плевел призваны рецензируемые журналы и ведомства, выделяющие гранты. Однако они могут стать слишком консервативными, поскольку им легче зарубить смелую идею, чем пойти на какой-то риск. Когда в 1985 году я стал главным редактором «Science», личный опыт, полученный в молодости, часто побуждал меня вставать на сторону нонконформистов. Загвоздка в том, что в сегодняшних исследованиях с их широким фронтом и возросшей специализацией очень трудно отличить невероятную истину от заблуждения.
Остается надежда, что само многообразие журналов и фондов, конкуренция между ними защитят нас от ведущего к застою монополизма и что яркая мысль, не понятая в одной редакции, найдет признание в другой. Вообще, наука — саморегулирующаяся система, в которой все ценное так или иначе пробивает себе дорогу. Мы же обязаны делать все от нас зависящее, чтобы максимально ускорить этот процесс.
Так что не будем отвергать с порога новые идеи. Даже если они грозят пошатнуть нашу любимую догму.
«Nature» (2004, т. 432, с. 447)












