Владимир Матвеев,
кандидат биологических наук, Институт цитологии РАН
«Химия и жизнь» №4, 2006
- Научный метод в эпоху специализации
- Конкурирующие теории
- Больная наука
- «Мы трансфретируем Секвану...»
Научный метод в эпоху специализации
По мнению Карла Поппера, научный метод, то есть основной инструмент научного исследования, — это, во-первых, осознание проблемы (например, провал прежней теории); во-вторых, предложение нового решения (новой теории); в-третьих, выводы из этой теории, которые можно проверить, предсказания; в-четвертых, выбор среди соперничающих теорий наиболее подходящей. Рассмотрим, как изменился научный метод под влиянием углубляющейся специализации в науке.
Подавляющее число авторов, пишущих о научном методе, находят самые яркие примеры его применения в истории физики. Крушение теории Птолемея, становление системы Коперника, возникновение классической физики Ньютона, теория Эйнштейна... Но представим себе на минуту: в XIX веке, после 300-летнего развития механики, глубина специализации в физике достигла таких пределов, что появились ученые-эксперты только одного закона Ньютона, которые уже плохо понимают все остальные его законы. Физика, как и современная биология, распалась бы в таком случае на множество полунезависимых «графств» и «государств».
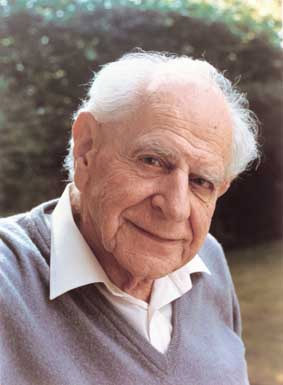
Теперь вопрос: было бы возможно в этом случае появление Эйнштейна и его теории? Кто в таком странном научном сообществе смог бы оценить всю важность его нового взгляда на физическую природу мира и сделать осознанный выбор между классической механикой и теорией относительности? Ответ очевиден: появление теории Эйнштейна было бы невозможным. Некому было бы и оценить ее, поскольку и для создания теории, и для ее оценки необходимо понимание физики как целого и такое целостное знание должно реализоваться в какой-то одной голове.
Роль личности-творца не может заменить ни совет экспертов, ни конференция, ни даже международный конгресс. История науки не знает примера, когда какое-либо открытие сделал симпозиум, а не отдельная личность. Следовательно, только личность может придать знанию целостность и логическую стройность. Научный метод работает до тех пор, пока он, от первого до последнего пункта, способен уместиться и работать в чьей-либо голове. В условиях, когда один эксперт владеет только первым законом Ньютона, а другой — только вторым, научный метод перестает существовать и становится мифом.
Чтобы сохранить научный метод в работоспособном состоянии при большом объеме знаний, область исследования неизбежно дробится, отдельные области мельчают ровно настолько, насколько это необходимо для того, чтобы интеллект одного человека был в состоянии оперировать с ней как с логически замкнутой конструкцией.
Так, если с начала XIX века по 60-е годы прошлого века предметом исследования цитологии была клетка как целое, то, начиная с 1970-х годов, учение о клетке вышло за пределы компетенции отдельно взятого специалиста. Именно на этом рубеже сделаны последние попытки дать обобщенное представление фундаментальных свойств клетки (Бойль, Конвей, 1941; Ходжкин, 1951; Линг, 1962; Насонов, 1962; Гудвин, 1963; Трошин, 1966; Уодингтон, 1968). Последние изменения общепринятой парадигмы в современной истории физиологии клетки связаны с усовершенствованием мембранной теории Бойлем, Конвеем (1941) и Ходжкин (1951), с гипотезой натриевого насоса Дина (1941) и с предположением Скоу (1957) о том, что Na, К-АТФаза как раз и является тем самым натриевым насосом. Позднее столь масштабных попыток теоретического обобщения наших знаний о клетке уже никто не предпринимал, потому что их объем, видимо, значительно превысил возможности интеллекта одного ученого.
Рассмотрим сложившуюся ситуацию на примере конкурирующих теорий в физиологии клетки.
-
По метавопросам.
Да, согласен, специализация -- это метод решения задач столь сложных, что один ум не может их охватить. Таким образом задача перекладывается на сообщество людей. И тут можно вспомнить, что отдельный ум -- это ведь тоже сообщество. Сообщество нейронов -- одноклеточных существ, освоивших тот самый язык, который предлагает создать оппонент Поппера.
Если такой язык будет создан, то сообщества людей превратятся в супермозги, которым будет по силам делать открытия в столь сложных областях, как биология. Но люди-то при этом превратятся в нейроны. А отдельные нейроны, очевидно, не имеют представления о том, что делает мозг.
То есть, мы решим проблему науки, найдём способ, чтобы симпозиумы делали открытия. Но при этом саму науку будут делать не люди, а коллективные существа. Является ли это приемлемым решением?
Другой вариант -- создать искусственный интеллект, компьютер, который один был бы способен охватить всю задачу целиком и одновременно являлся бы единой личностью, способной совершать открытия. Но ведь и от такой науки человек был бы отстранён и это решение, по сути, мало отличалось бы от предыдущего.
Мне кажется, что истинное решение лежит в открытии технологий искусственного интеллекта и на их основе совершенствование нашего собственного мозга. Будет ли это киборгизация человека или просто какой-то способ развить сверхспособности -- неважно. Важно, что отдельная личность получит возможность охватить то, что сейчас не может.
По поводу мембранной теории.
Я не понял. Ведь известно, что кроме внешней мембраны внутри клетки есть ещё куча мембран. Всякие там цитоскелеты, микротрубочки и т.п. Они-то тоже, наверное, должны обладать активными разделяющими свойствами. Не получится ли, что с учётом ВСЕХ мембран мембранная теория всё-таки работает хотя бы на 50% (а остальные 50% обеспечивает ТАИ)? -
Спасибо за статью! - вы многое выразили сходно с моими ощущениями. Последним из титанов, могущих выдать сильную глобальную аналитику, останется, видимо, Ф.Крик.
Два любопытных совпадения в связи с вашей статьей: я у себя в жж месяц назад поместил ссылку на фазовую теорию клетки,
http://nature-wonder.livejournal.com/36819.html
и буквально на днях The NY Times напечатала статью-разнос всей системе peer-review...:)))
http://elementy.ru/blogs/users/nature_wonder/3697/ -
"...Последние 50 лет наука все больше специализируется, что особенно заметно в быстро развивающихся областях. В этом естественном процессе кроется малозаметная, но реальная угроза научному методу...".
А ведь это действительно становится препятствием. Проблема расчленяется на кусочки. И ученые становятся специалистами "по осколкам". А кто соберет все вместе? А может вообще решение находится рядом. Но не в этих осколках. Посмотрите историю необычной судьбы русских ученых А.Т. и Б.Я.Качугиных. Эти люди умели правильно соединить осколки и получить целое,- РЕЗУЛЬТАТ. Очень рекомендую посмотреть исторический обзор на ( www.kachugina-therapy.info) .
Рачленение проблемы на кусочки помогает. НО КТО БУДЕТ ВСЕ ЭТО СОЕДИНЯТЬ ВМЕСТЕ? Таких ученых мало. Качугин - теоретик умер. Качугина практик умерла.
Опасность слишком большой специализиции (при потере целого). Это увы. Реальность. -
Один из возможных подходов к выходу из создавшейся ситуации
с целью интеграции данных и знаний из разных разделов
в пределах определенной области знаний изложен на сайте
http://patho-not.narod.ru. Его суть состоит в создании
компьютерной базы знаний по отдельным отраслям науки
с интеллектуальной системой связей (например,
причинно-следственной) между отдельными смысловыми
элементами указанной базы, применяя современные
мультимедийные возможности для наглядности.
В ноябре 2008 года в издательстве 'Наука' (Санкт-Петербург) выйдет в свет книга
Гильберт Линг
Физическая теория живой клетки
Незамеченная революция
Все мы со школьной скамьи знаем, какую важную роль в жизни клетки играет мембрана. Автор книги считает, что ее роль во многом преувеличена и даже искажена. Барьерную функцию между клеткой и средой играет, согласно автору, структурированная вода, а не билипидный слой, покрывающий, как принято думать, ее поверхность. Это свойство внутриклеточной воды не имеет ничего общего с некими 'тайнами живой воды', ставшими предметом многочисленных спекуляций. В основе особого состояния воды в клетке лежит простое физическое явление: возрастание дипольного момента молекулы воды при взаимодействии с фиксированными зарядами на белках, в результате чего прочность водородных связей между молекулами возрастает, что и способствует появлению обширных и упорядоченных водных структур. Далее Линг утверждает, что молекулы белков являются электронными машинами. Благодаря изменению электронной плотности на функциональных группах белков изменяется характер их взаимодействия с водой, с ионами и другими веществами. В одном состоянии карбоксильные группы белков селективно связывают ионы K+, в другом - Na+. Главный вызов, который бросает Линг общепринятым представлениям - это утверждение, что теория натриевого насоса нарушает закон сохранения энергии. Его подсчеты показывают, что для поддержания наблюдаемого обмена ионами K+ и Na+ между клеткой и средой насосу требуется в несколько тысяч раз больше энергии, чем клетка способны произвести. В книге с новых позиций рассматриваются четыре фундаментальных свойства клетки: полупроницаемость, избирательность в поглощении веществ из среды, осмотическая стабильность и способность генерировать электрические потенциалы. Нет сомнения, что эта книга даст пищу для размышлений всем любознательным. Прав автор или нет, но одно бесспорно: его подход дает толчок активному переосмыслению самых разнообразных проблем биологии и физиологии клетки, включая азбучные истины. Книга рассчитана на студентов старших курсов, аспирантов и специалистов в области биофизики, биохимии и физиологии клетки. Подробности см. здесь: http://www.bioparadigma.spb.ru/russianling/russianling.htm .














