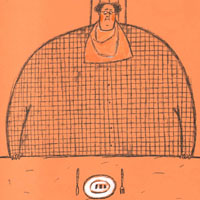Биоинформатики: происхождение и жизненный цикл
Константин Попадьин,
кандидат биологических наук
«Троицкий вариант» №25(144) 24 декабря, 2013 года, №01(145), 14 января 2014 года
К предновогоднему номеру Константин Попадьин, канд. биол. наук, н. с. кафедры медицинской генетики и развития медицинского факультета Женевского университета (Швейцария), н. с. ИППИ РАН, подготовил доклад, который, без сомнения, поможет школьникам и аспирантам определиться в выборе единственно верной профессии — биоинформатики.

Меня часто спрашивают: «Кто такие биоинформатики и чем они занимаются?» Мне изрядно надоело каждый раз придумывать ответ на ходу, и я решил изложить суть дела на бумаге, раз и навсегда удовлетворив всех любопытствующих.
Да, я не раз сталкивался с биоинформатиками! Иногда мне даже улыбалось счастье наблюдать их в непосредственной близости — чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. На первый взгляд они кажутся очень разными — это как если смотреть на бабочек, порхающих на цветущем лугу: все разного цвета и разного размера; некоторых легко поймать, а других сложно; некоторые летают быстро и бесшумно, а другие медленно и немного поскрипывают от трения крыльев. Но когда начинаешь их сравнивать, например, с кузнечиками, понимаешь, что даже у биоинформатиков есть кое-что общее...
Итак, биоинформатик — это мужик (за редким исключением). Бородатый такой, в очках и с сотовым телефоном (большим, черным и с зеленым экраном), глядя на который школьники младших классов долго спорят — что же это такое? Причем версия «сотовый телефон» даже и не выдвигается.
Путь биоинформатика сложен и иррационален, поэтому каждый биоинформатик может поведать свою уникальную историю падений и взлетов, если его как следует накормить. Стать бионформатиком по собственному желанию нельзя, так как Профессия выбирает своих жертв, а не наоборот. Однако можно немного уменьшить или увеличить шансы того, что вас выберут.
Если, например, на биохимической практике биологического факультета вы выделили белок, который в университете из поколения в поколение показывают в виде образца, или если в чашке Петри у вас растут бактерии «как на дрожжах» — не быть вам биоинформатиком. Если же у вас сдохли все подопытные объекты до защиты курсовой, а не после (как у всех), то шансы статистически значимо увеличиваются.
Дрожжи, дрозофилы, дафнии, бактерии, тигры, плазмиды, красные волки и транспозоны, синицы большие и малые, кашалоты и фибробласты — объект не важен — у биоинформатиков дохнут все! Иногда биоинформатики видообразуются из математиков, но это ничем не лучше, а даже наоборот. Не имея плачевного детского опыта с хомячками и попугайчиками и плачевного студенческого опыта с бактериями и плазмидами, они с остервенелыми усилиями стараются «наверстать упущенное». И это им удается! Потому что биоинформатик — это призвание.
Отключив несколько раз холодильник с замороженными пробами и реактивами в поисках розетки для подзарядки телефона, проспав защиту диплома из-за того, что «телефон все-таки сел и не разбудил», будущий биоинформатик всерьез задумывается над своей жизнью.
Для продолжения жизненного цикла в этот момент крайне необходимо (i) не купить другой телефон и (ii) встретить уже закоренелого биоинформатика. Если таковой встречается, он говорит: «Коллега, хватит заниматься ерундой! Вот тебе книжка — Perl для чайников, и вперед, ну а если будут вопросы — звони...» Юный биоинформатик бросает взгляд на телефон закоренелого, и — о чудо! — у него проясняется взор, а в глазах загорается огонек надежды. Точно такой же!!! В народе в подобные моменты говорят: «Родился маленький милиционер». После осознания этого знамения юный биоинформатик с дрожащими руками и благоговением садится за компьютер и пробует на зуб новую стезю.
Говорят, у мальков щуки есть всего лишь несколько бросков, чтобы поймать что-то съедобное и выжить, а неудачная первая охота молодого волка оставляет негативный отпечаток на всю его жизнь. Поскольку биоинформатик уже бросил мокрую биологию (или математику, физику, химию), укус новой стези должен быть не шуточным, иначе в полный рост встанет угроза закончить свою жизнь на бальных танцах, где всегда рады мальчикам, даже бородатым. И в этот переломный момент становления личности биоинформатика он понимает, что и компьютера оказывается предостаточно!
Происхождение жизни на Земле, РНК и ДНК, эукариоты, кактусы, динозавры и красные волки, вредные мутации и полезные, видообразование и вымирание — всё теперь стало как-то ближе и четче, нежели через призму пробирки. Это как если ты полжизни проходил близоруким и вдруг надел очки. Теперь ты видишь, что трамвай, на котором ты едешь в университет, не 00, а 33 (всегда удивлялся странному номеру — 00), а девушка, которая водит этот трамвай, совсем не девушка, а даже наоборот.
С телом тоже происходят странные вещи — ноги стали как-то длиннее, а на пальцах ног появились волоски, как у хоббита какого... На темных досках в университете теперь видно много всего непонятного. В общем, жизнь стала полна мелких деталей, и изголодавшийся мозг — с такой-то качественной графикой — стал получать намного больше информации. Но не будем отвлекаться, ведь очки — это лишь метафора.
Итак, работа пошла! Под пальцами (под пальцами рук!) нашего новоиспеченного и уже прозревшего биоинформатика каждые полчаса встают и рушатся цивилизации: наконец-то — лекарство от старости! Динозавры вымерли, потому что накопили слишком много вредных мутаций! Средняя длина интронов у птиц обратно коррелирует со скоростью их полета! Мутация партеногенеза дафний распространяется с севера на юг со всё ускоряющимся темпом и очень странно, но статистически достоверно коррелирует со средним количеством детей на семью человека...
И вот биоинформатик уже мурлыкает себе под нос: «Я мегамонстр, я супервундеркинд, я повелитель мира». И только летучие мыши не соглашаются подтверждать никакие корреляции: и живут они дольше, чем им положено, и сколько им положено — не ясно, и геномы их слишком похожи на птичьи. С ними что-то не чисто... С каждым днем наш биоинформатик матереет и всё меньше верит прописным истинам, всё ставит под сомнение, а его мысли всё смелее и смелее: «возможно, летучие мыши — это просто-напросто птицы... »
Как правило, мысль, которую думает биоинформатик, находит отражение в его внешнем облике, поэтому опытные люди замечают биоинформатиков на глаз. В народе про таких говорят: «Внешность, обезображенная интеллектом». Но мало кто знает, что это сотовый телефон оттягивает карман их пиджака.
Мысль сама по себе никогда не исчезает из головы биоинформатика. Если она правильная, то чтобы ее забыть, ее нужно обязательно опубликовать. Бывает, что мысль неправильная, но и в этом случае ее надо публиковать — ведь каждая мысль биоинформатика ценна и неповторима: никто не может повторить мысль кроме автора этой мысли. Иногда и авторам этого не удается. Тогда в народе говорят: «Мысль улетела». И милиционерам повышают зарплату.
И нет ему покоя, пока в компьютере есть нерешенные задачи, а в голове — мысли, и мучает его тоска, что жизнь коротка, а столько всего теперь можно сделать. Теперь! Когда у тебя на пальцах ног появились волоски! Но всё же изредка, когда надо подзарядить сотовый и рядом не находится свободных розеток, холодильников или суперкомпьютеров, биоинформатик вынужден выключить свой любимый компьютер и ставить заряжаться свой напрочь «сдохший» сотовый. И теперь у него есть несколько суток, чтобы преклонить свою уставшую голову на плечах коллег и набраться сил, поскольку впереди у него будет очень длинный день...
Один день из жизни биоинформатика
Проснувшись, биоинформатик первым делом дожидается темноты, поскольку днем работа не ладится. С последними лучами солнца он включает компьютер, и — дело пошло. Один скрипт, второй... Для разминки что-нибудь простое и житейское, чтобы перед девочками потом хвастаться: ну, например, почему люди так не похожи на обезьян? Почему у нас так много лишних способностей, совсем даже не нужных для выживания? Почему мы пишем картины и сочиняем музыку, а шимпанзе этого не делают или делают на очень примитивном уровне?
Итак, наш биоинформатик сравнивает геномы человека и шимпанзе в надежде понять — чем же мы отличаемся по сути дела? Где ген или гены человечности? Смотрит-смотрит, сравнивает-сравнивает, а в результате находит, что лишь гены сперматогенеза и оогенеза согласно всем статистическим тестам сильнее всего отличаются между человеком и шимпанзе. «Ага?! Стало быть, гены размножения каким-то образом вселяют в нас потребность в возвышенном?! Неожиданно, но почему бы и нет!? Надо бы не забыть завтра с коллегами это обсудить. А лучше с девочками...»
Полночь. Шутки в сторону, впереди большая наука, и на повестке дня — вредные мутации. Сколько в нашем геноме вредных мутаций? Насколько хорошим был бы человек без вредных мутаций? Как их поймать и посчитать? Связана ли вредность человека с количеством вредных мутаций в его геноме? Итак, биоинформатик скачивает все доступные геномы человека и начинает с ними играться. Африканцы, европейцы, не синонимические мутации, редкие, частые, консервативные и не очень... Ничего интересного не получается!
Первым устает компьютер. Странно, почему если скрипт запускать в четные минуты — он работает адекватно, а в нечетные — не очень? На всякий случай перед командой в терминале биоинформатик начинает добавлять «please». Это помогает, но после двух часов ночи приходится еще и произносить «please» вслух.
Три часа ночи. Наконец-то — прогресс! Мысль чиста и прозрачна. Он — король мира. Он понимает всё про вредные мутации в геноме человека и не только. Ho, в соответствии с законом Стругацких, Вселенная начинает активно противодействовать гениальным открытиям, которые могут повредить ее гомеостазу в будущем.
Компьютер вдруг начинает пошаливать больше обычного и становится почти непредсказуемым. Не помогает ничего — ни уговоры, которые работали совсем еще недавно, ни поглаживания... Что делать?
Компьютеру доверять уже нельзя, а ведь надо как-то сохранить добытое знание. Биоинформатик озирается по сторонам и будит того, кто под рукой, — супругу, сестру, брата — и рассказывает ему все свои новости.
Успокоившись, что информация сохранена, и завтра ее можно будет восстановить, биоинформатик убаюкивает коллегу и решает сделать пару проверок, чтобы спокойным и счастливым заснуть самому. Но Вселенная не дремлет: вдруг дико захотелось есть и появился так называемый эффект бурозубки. Энергии может не хватить, чтобы дойти даже до холодильника, и тогда начнутся необратимые последствия... Хотя, как мы уже поняли, биоинформатик — финальная и необратимая точка сама по себе. Поэтому эффект бурозубки ему не очень страшен. Надо просто аккуратно, тратя минимум сил, дойти до холодильника. Можно даже проползти, если никто не видит...
Пять часов утра. Произведен удачный прод-рейс. Вселенная более не сопротивляется. Печатать нет необходимости. Общение с компьютером установлено напрямую, поскольку пальцам доверять уже нельзя. Идет обмен мыслями:
— Ты кто?
— Я летучая мышь.
— О, всегда хотел пообщаться с летучей мышью вот так — запросто. Скажи честно, вы птицы?
— Не могу сказать, это наш самый большой секрет...
— Так значит, я правильно догадывался!!!
Шесть часов утра. Светает. Биоинформатик напоминает вампира. Лучи солнца не радуют, звуки окружающего мира далекие и приглушенные. Руки дрожат. До самопроизвольного глубокого обморока минут пятнадцать-двадцать. Еще есть время на маленькую задачку для души, что-нибудь философское и приятное, чтобы лучше спалось, например «в чем смысл жизни?»
Тут главное — правильный подход, поскольку уже нет времени на ошибки. Итак, биоинформатик решает сравнить зверей, которые «хотят жить очень» с теми, которые «хотят жить не очень» и уже загремели со своим пессимизмом в Красную книгу. Так, так, так. Он поднимает все базы данных и смотрит — чем могут отличаться эти звери: трофические уровни, плотность популяции, масса тела, полиморфизм ДНК, количество детей, произведенных за год.
Ага, полиморфизм работает неплохо, но количество детей в год еще лучше объясняет различие между сильно желающими и не очень желающими жить зверями! Стало быть, те, кто ценит жизнь, — активно размножаются! И что же — смысл жизни в размножении!? Черт, опять всё вокруг девочек. Неужели они и впрямь так важны!? Надо будет присмотреться к ним, а лучше даже поизучать.
Тут... раздается ужасный звук, который заставляет биоинформатика подпрыгнуть и схватиться за сердце — сначала справа, потом слева — и, нащупав его, ощутить спокойствие! Это просто звонок. Звонок сотового. Пора вставать. Биоинформатики никогда не встают рано, но всегда заводят ранний будильник. Просто, чтобы жизнь малиной не казалась. Просто, чтобы не забывать, что можно всю жизнь проспать. А теперь это непозволительно.
Звонок вернул биоинформатика из полузабытья, прочистил мозги и выветрил все мысли. Повтыкав на компьютере чисто по инерции с полчаса, биоинформатик осознает, что не понимает, что он хочет от компьютера и что компьютер хочет от него. Видимо, компьютер испугался тоже не на шутку. Может, всё же баиньки? Нет! Для чего всё это было?! Ведь было же что-то очень важное и интересное! Что-то такое, что может объяснить многое. Нужна просто маленькая подсказка. Приходится будить хранителя тайны, который мирно сопит неподалеку: «Хранитель тайны, говори!» Хранитель спокойно так и дисциплинированно произносит часть своего сна вслух (что-то там неясное про девочек), и радостный биоинформатик хватает мысль за хвост и срочно ее записывает на стене, чтобы прочитать и довести ее до логического конца завтра.
А за окном уже совсем светло. Зашумели машины, вслед за ними и милиционеры подтянулись на работу. Биоинформатик доползает до постели и пытается сладко провалиться в сон. Минут пять блаженной пустоты, после которой начинается сон.
Во сне он встречает закоренелого и говорит ему: «Мне теперь нравится моя жизнь, мне нравится то, что я делаю. Мне очень интересно. Но есть один вопрос, который задавать прилично только сейчас, во сне. Есть какой-то секрет с сотовым?»
Закоренелый так странно улыбается и отвечает: «Сотовый телефон — это самое главное в нашей профессии: раз ты смог выжить с таким телефоном, значит, ты силен и из тебя еще выйдет толк...» Дальше слова закоренелого разбирать всё труднее и труднее — они переходят в визг. И вот закоренелый расправляет сложенные за спиной крылья и на пороге слышимости пищит: «А мы, летучие мыши, все-таки не птицы». И улетает в форточку.
И даже во сне биоинформатик начинает томиться и ерзать от новых нерешенных загадок.
Спи спокойно, биоинформатик. Да пребудет с тобой сила!
-
"Динозавры вымерли, потому что накопили слишком много вредных мутаций!"
Гордон №237 Ископаемые ящеры
http://www.youtube.com/watch?v=nV-HBXyyIbs
Они вымерли потому что начал изменяться мир вокруг них.
Гордон №129 Нейроэволюция
http://www.youtube.com/watch?v=h6kjJF3ASqU
Судя по всему главное отличие от обезьян и главный орган это мозг.
А что такое вредные мутации, без них никак, все мутации изначально одинаковые, они нужны лишь для того что бы нащупать новое приспособление к новым условиям, либо усовершенствовать старые.
т.е. это всего лишь метод, а их вредность необходимое условие для перебора всех вариантов и отыскания полезных 0,1% имхо. -
Ага, полиморфизм работает неплохо, но количество детей в год еще лучше объясняет различие между сильно желающими и не очень желающими жить зверями! Стало быть, те, кто ценит жизнь, — активно размножаются! И что же — смысл жизни в размножении!? Черт, опять всё вокруг девочек. Неужели они и впрямь так важны!? Надо будет присмотреться к ним, а лучше даже поизучать.
СПРАВЕДЛИВО



.jpg)