«Возможности пептидов безграничны»
Интервью Наталии Лесковой с Вадимом Ивановым
«Знание — сила» №1, 2020
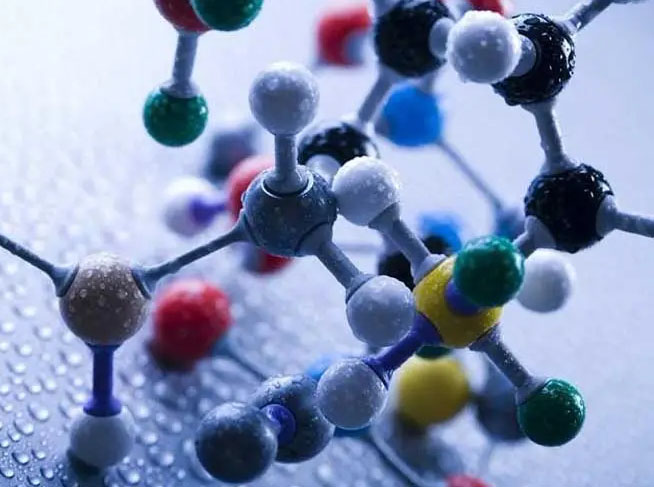
Академик Вадим Тихонович Иванов, научный руководитель Института биоорганической химии РАН, пришел в институт в 1960-м году, через год после его официальной организации, то есть работает в этих стенах 60 лет. Именно столько лет исполнилось институту в сентябре прошлого года. Сначала наш собеседник был аспирантом, потом — младшим научным сотрудником, затем старшим и, в конце концов, стал директором. Эту должность занимал почти 30 лет. Наверное, постоянство, по словам Вадима Тихоновича, — одна из черт его характера. Скажем, женился в 1962-м году, еще будучи аспирантом. «И разводиться пока не собираюсь», — улыбается академик. Золотую свадьбу уже сыграли, ждут бриллиантовую. Двое детей, четверо внуков. А еще одна любовь ученого — это пептиды, которым он посвятил всю свою научную жизнь. Какую роль они играют в нашей жизни, и каких «открытий чудных» стоит еще от них ожидать? Об этом и многом другом рассуждает В. Т. Иванов.

— Вадим Тихонович, поскольку вы здесь старожил, интересно вспомнить, с чего начинался Институт.
— Организовал его академик М. М. Шемякин. Он собирал свой коллектив, что называется, с миру по нитке. Пришли сотрудники Института биохимии, где тогда занимались антибиотиками, две лаборатории из Института органической химии, была и команда из Московского университета, в которой ваш покорный слуга тоже участвовал. Там главным лицом являлся Ю. А. Овчинников. Я писал у него диплом, а Овчинников, будущий академик, окончил аспирантуру в МГУ. Шемякин его пригласил к себе, дал лабораторию в институте. Существующие тогда химические учреждения слабо занимались химией живого. А это — одно из наиболее перспективных направлений химической науки. Поставили задачу: создать учреждение в системе Академии наук СССР, которое занималось бы молекулярной организацией живых существ. В то время, из-за тяжелейшей ситуации, связанной с влиянием Лысенко, прикрывались всякие попытки молекулярного анализа наследственности, и слово «ген» запрещалось.
Мы занимались тем, что считали важным. В первую очередь, антибиотиками. Вскоре стало понятно, что этого недостаточно: есть нуклеиновые кислоты — основа наших структур, которые передают из поколения в поколение генетическую информацию и закладывают информационную основу жизни. Есть рабочие тела — белки, которые вообще непонятно было, как исследовать в те времена. На описательном уровне — более-менее ясно, что это такое, но химически это — терра инкогнита. Ну, не говоря уж о миллионах низкомолекулярных биорегуляторов. Углеводы, липиды и прочее — всё это размещалось на самой начальной стадии исследований. Так начал развиваться наш институт, которому в нынешнем году, в сентябре, исполняется 60 лет.
— Интересно, когда произошел наибольший расцвет учреждения?
— Готовясь к юбилею, я решил посмотреть динамику его развития. И понял, что вначале, более 20 лет подряд, имелся заметный рост по многим показателям — научным в первую очередь. А вот начиная с 90‑х — полный провал. Эти годы роковые — конечно, не только для нашего института. Мы потеряли человек 100 кандидатов наук, они уехали за рубеж, поскольку нормально жить и работать здесь стало, мягко говоря, сложно. Получали что-то около 70 долларов в месяц — такая в то время средняя зарплата. На эти деньги нельзя прокормить семью. В 2000‑х ситуация начала постепенно улучшаться.
И всё же решающим для того, что мы видим сегодня, являлись 70‑е и начало 80‑х. Тогда сошлось много очень векторов. Во всем мире наблюдалось бурное развитие наук о жизни. 50% общего бюджета мировой науки шло на них. У нас — значительно меньше, поэтому непросто угнаться за тем, что в мире делается, но мы пытались, да и сейчас пытаемся. Коллектив за эти годы вырос. Проблемы биологической безопасности возникли на стратегическом, политическом уровне. Усилилась поддержка исследований, направленных на исследование механизмов работы живых систем, в том числе и человека. В те годы принималось несколько постановлений ЦК КПСС и Совета Министров, национальных программ, и по одной из них выстроено это замечательное здание, где мы сейчас находимся.
Многое здесь — удивительно. По сути, это не одно здание, а целый город в городе со своей инфраструктурой: девять корпусов лабораторий, офисы, мастерские, у нас есть спортивный комплекс, зимний зад, даже гостиница работала (правда, ее потом передали в ведение Академии наук). Академик Ю. А. Овчинников, мой учитель, который к тому времени стал вице-президентом Академии Наук, самым молодым в ее истории, курировал химию и биологию, возглавлял наш институт, являясь его настоящим патриотом. На наше заведение приезжали смотреть, настолько всё здесь было в диковинку. Я стал его заместителем.

Ю. А. Овчинников
Тогда мы обладали фактически неограниченными возможностями. Любой прибор ты мог купить. Нужны импортные реактивы — давай список. Отечественная промышленность производила только простейшие реактивы, да и сейчас не лучше. Кстати, и приборной промышленности тоже нет. Приборы все импортные, к сожалению. Если раньше делались попытки создать отечественные приборы, то сейчас и этого нет. А серьезная импортная аппаратура стоит бешеных денег. Иметь нормальный приборный парк — это нереальная мечта очень многих моих коллег. Мы пытаемся как-то держаться на мировом уровне, но достичь этого без серьезной государственной поддержки невозможно.
— За результаты ваших работ было получено немало высоких престижных премий. Давайте вспомним некоторые из них.
— Например, в 1978 году мы получили Ленинскую премию за цикл работ по созданию нового класса мембранных биорегуляторов и исследование молекулярных основ ионного транспорта через биологические мембраны. Эту работу мы проводили совместно с Овчинниковым. А начиналось всё с исследования антибиотиков, которые интересовали Шемякина, — так называемых депсипептидов. Они построены не как обычные пептиды — фрагменты белков, а по-другому. Кроме аминокислот, они содержат в своем составе так называемые оксикислоты. В изучении этой экзотической группы веществ мы стали лидерами. Химически синтезировали предложенные в литературе структуры, показали, что структуры эти ошибочные, потом установили правильные структуры.
В какой-то момент выяснилось, что эти вещества имеют очень интересный механизм действия — они связывают ионы щелочных металлов — натрия, калия, рубидия, цезия, из которых натрий и калий жизненно важны для нормального метаболизма. Один из этих депсипептидов, валиномицин, обнаружил потрясающую избирательность действия — он в 10 000 раз эффективнее связывал калий, чем натрий. Химики не умеют такого делать, а валиномицин умеет. Это — сногсшибательное открытие!
Более того, валиномицин делал клеточные мембраны, которые являются основой жизни, избирательно проницаемыми для калия. Калий начинает течь через мембрану. И это существенным образом влияет на весь метаболизм. Мы расшифровали пространственные структуры депсипептидов, выявили истоки их ионной избирательности и описали механизм их действия. Тогда еще не было электронной почты, и мы получили полторы тысячи запросов на оттиски нашей статьи, она вызывала интерес огромный. Кстати, скульптура, которая стоит при входе в институт, — это абстрактное изображение калиевого комплекса валиномицина. Отголоски той самой Ленинской премии.
Но дальше — больше. Оказалось, что транспорт ионов металлов в живых системах работает по тем же принципам. Атомы кислорода сближаются с ионами металла, вода уходит, комплекс проходит через мембрану, меняется электрический потенциал мембран, наш мозг передает по нервным путям ощущения боли и прочие команды... Всё это, оказывается, тоже основано на транспорте ионов. Это стало неким шагом вперед, который оказался полезным для будущего развития нашей науки о молекулярных основах жизни.
— Правда ли, что в какой-то момент вы находились в двух шагах от Нобелевской премии
— Наша работа с антибиотиками привела к пониманию того, что мембранные механизмы вообще очень важны. Они были плохо изучены. Ведь мембрана — как она устроена? Как правило, некий жир — липид — создает основу клеточной оболочки, а в нее встраивается много всего остального — белки, углеводы, всё прочее. Овчинников поставил задачу — мы займемся изучением мембранных белков, абсолютно новое направление. Он, например, установил химическую структуру первого в мире мембранного белка — бактериального родопсина. Установил в условиях жесточайшей конкуренция с Нобелевским лауреатом Х. Г. Кораной, но, тем не менее, опередив его на несколько недель. В тот момент мы занялись белками на таком высоком уровне, что можно было думать и о серьезных международных премиях, в частности, о Нобелевке. Мы ее, правда, так и не получили — получили другие. Но тогда наша наука была конкурентоспособной, мы вызывали интерес по всему миру. У нас с успехом проходили международные симпозиумы. Наши доклады производили фурор.
— А что это за работа, посвященная токсинам?
— В 70–80‑х годах прошлого века мы провели очень важные исследования, работу, за которые потом получили Государственную премию СССР — цикл работ «Нейротоксины как инструменты исследования молекулярных механизмов генерации нервного импульса». Начинал эту деятельность тоже Овчинников. Суть вот в чем. Как известно, многие живые существа производят ядовитые вещества, токсины. Институт стал одним из мировых лидеров по изучению этих веществ. Мы изучали токсины змей, пауков, пчел, муравьев, и прочих животных. Делали полный химический синтез основных химических структур. Это была работа мирового уровня, когда из аминокислот — буквально из угля, из воздуха и воды — мы создавали живой белок. И изучали эти структуры, создавали производные, постигали механизм действия этих токсинов.
Оказалось, что большинство из них действует на нервную систему. Когда человек слышит слово «токсин», он сразу думает о чем-то плохом, вредном, ядовитом. Конечно, это верно, но все дело в дозировке. Токсин может убить. Но в то же время, это — мощный инструмент изучения нервной системы и прообраз новых лекарственных средств. Для меня — скорее, инструмент, чем конкретное лекарство. Сегодня финансирование удается получить на подобные работы, только если оперировать будущим лекарством. Но ведь нужно понимать, что без фундаментальных исследований лекарства никогда не будет.
Сейчас на стадии доклиники находятся созданные на основе токсинов новые анальгетики, которые работают по механизму, которого нет у современных медикаментов. Они могут снимать боль там, где современные лекарства не справляются. Ведь не секрет, что есть виды боли, которые не лечатся. Но с ними можно бороться, используя механизмы, открытые в Институте.
Многое сделано за эти годы. Бывали у нас и курьезы, тоже приводящие к открытиям.
— Как интересно! Расскажете?
— Удивительная история связана с болгарской простоквашей. В свое время Илья Ильич Мечников заинтересовался вопросом, почему одни народы живут дольше, а другие — меньше. По статистике, в Болгарии много долгожителей. Мечников выяснил, что в рационе у болгар много кисломолочных продуктов, и он предположил, что они чем-то полезны для здоровья и способствуют общей продолжительности жизни. Он опубликовал данную гипотезу, которая долгое время так и оставалась гипотезой.
В 1960‑е годы болгарский ученый Иван Богданов решил проверить, есть ли в болгарской простокваше какие-то ценные активные компоненты. Он вырастил в ферментёре культуру молочнокислой бактерии, фракционировал ее экстракт и получил некий препарат, который назвал бластолизином. Он применял его в противоопухолевой терапии в качестве официально зарегистрированного в Болгарии медицинского препарата. Препарат представлял собой сложную смесь компонентов с неизвестной структурой. В конце 70‑х Богданов привез бластолизин к нам в институт, предложил выделить действующее начало и установить его химическую структуру. Один из компонентов был вскоре выделен, для него была предложена некая структура. Мы тут же провели синтез вещества с такой структурой, но оно оказалось неактивным, то есть вопрос о природе действующего начала оставался открытым. К счастью, в ходе синтеза получили серию родственных соединений, и среди них оказались образцы, демонстрирующие нужную активность.
В конце концов, выяснилось, что действующее начало препарата Богданова — это фрагменты клеточной стенки бактерий. У бактерии есть клеточная стенка, построенная из аминокислот и сахаров, особым образом соединенных друг с другом. И если взять правильный фрагмент из этой стенки, то он стимулирует нашу иммунную систему, создавая «образ врага». Со всеми вытекающими последствиями — противовоспалительным, антибактериальным и противоопухолевым действиями. Это — тот случай, когда мы в лихие 90‑е мучительно, с привлечением западных коллег, с элементами авантюрности и счастливой случайности сумели пройти путь от открытия структуры до лекарства, которое продается сейчас в аптеках. Кстати, за разработку этого препарата мы получили премию правительства России.
— У вашего Института есть пущинский филиал, его еще называют опытной базой. Работает ли он сейчас?
— Еще как работает! И филиал — детище Овчинникова, очередной раз говорящее о его умении предвидеть будущее и рожденное благодаря полноценной государственной поддержке нашей науки. В филиале действует отличный питомник животных, а также фармакологическая лаборатория, которая может делать на самом современном уровне доклинические испытания лекарственных препаратов. Единственное, кстати, в стране учреждение, которое проводит все эти работы в соответствии с западными стандартами. Это — лучшее в стране место для проведения доклинических испытаний на новых препаратах. Кроме того, в филиале функционирует великолепная теплица — фитотрон для выращивания растений в контролируемых условиях. Там ведутся опыты с растительными организмами, в том числе по влиянию генной модификации на все их свойства. Многое из того, о чем я рассказывал, невозможно осуществить без участия подразделений филиала.
— Чем вы сейчас заняты, как научный руководитель Института?
— Да всё тем же — пептидами. Начиная с 2000‑х, мы занялись системным исследованием биоразнообразия пептидов. Многие годы каждый природный пептид был «штучным товаром», полные каталоги пептидов насчитывали менее 10 000 таких веществ. Вместе с тем, было ясно, что эти каталоги представляют малую часть того, что творит природа. Ведь белков в любом организме сотни тысяч, каждый из которых нарезается ферментами на более мелкие фрагменты, то есть на пептиды. И если белки — рабочие тела, которые делают основную работу — гидролизуют, синтезируют, превращают свет в энергию и так далее, то пептиды регулируют эту работу, давая всю гамму сигналов — от «старт» до «стоп».
Недавно мы провели первый системный анализ пептидов растительного объекта на примере популярного модельного объекта мха. Была установлена структура более 20 000 пептидов этого организма. Значительная часть всего этого множества, по-видимому, представляет собой своего рода «мусор», который используется как сырье для постройки новых белков. Но часть из них оказалась мощными эндогенными регуляторами. Например, мы подняли уровень одного из пептидов с помощью генной модификации, и мох стал расти в два раза быстрее. Убрали другой — изменилась форма стебля. Можно смело утверждать, что растение генерирует какие-то пептидные гормоны, которые можно обнаружить, если системно анализировать всё многообразие пептидов (так называемый пептидом). А затем выбирать из него то, что тебе нужно, в том числе для практических целей. Сейчас мы планируем распространить наши подходы на анализ пептидов хозяйственно важных растений, в первую очередь — картофеля.
Отдельная проблема — пептидомы микроорганизмов. Пока наши знания в этой области крайне ограничены. Мы знаем, что микробы продуцируют пептиды, останавливающие или замедляющие рост других микроорганизмов. Но это наверняка далеко не единственное, что они умеют делать. Есть все основания ожидать, что образуются и пептиды, регулирующие отдельные стадии развития микроорганизмов. Какие именно — не знаем, каким образом — неизвестно. Будем изучать, первые шаги уже сделаны.
— Вадим Тихонович, чем же вас так заинтересовали пептиды, что вы посвятили им всю жизнь в науке?
— Иногда я сравниваю мир пептидов с темной материей в астрономии. Темная материя, как говорят, занимает большую часть Вселенной. То же самое можно сказать о пептидах — в том смысле, что доля обнаруженных и изученных пептидов составляет только малую часть от реально присутствующих в живых организмах. Эту «темную материю» еще предстоит изучить. И это — область, которой я занимаюсь, она мне по-прежнему безумно интересна — как и в те годы, когда я пришел сюда аспирантом.
Сейчас вырисовываются перспективные возможности применения пептидного анализа для медицинской диагностики. В целом, любая патология влияет на метаболизм человека, а значит и на пептидный состав каких-то его органов или жидкостей, например, крови. Вопрос в том, чтобы выявить эти сдвиги. Мы провели серию предварительных опытов, анализируя пептидный состав крови больных с разными видами рака. В каждом случае из тысяч обнаруженных пептидов несколько сотен обнаруживались только у больных с определенным видом рака и отсутствовали у больных с другим видом или у здоровых людей. Иными словами, налицо серьезные предпосылки для разработки новой, пептидной диагностики. Это было бы значительным подспорьем в онкологии, да и вообще в диагностике тяжелых заболеваний. Сейчас мы заключили контракт с онкоцентром на Каширке, предстоит работать совместно.

Зимний сад
— Много ли у вас учеников?
— В золотые годы многие стремились у нас работать. Когда возможности иссякли, возник кадровый голод. Но сейчас институт поднял голову. Появились новые лидеры — молодые доктора наук, амбициозные, энергичные, талантливые. И молодежь, которая готова за ними идти.
В 1975 году Овчинников организовал кафедру биоорганической химии в МГУ, где был заведующим, позже мне передал эту должность. А потом он создал учебно-научный центр у нас в институте, выделив прекрасные помещения. Действуют контракты с четырьмя вузами, к нам присылают студентов. Имеем колоссальное преимущество в том, что даем практические курсы по многим направлениям. Ребята могут самостоятельно работать с белками, нуклеотидами, модельными мембранами, иммуноглобулинами и прочим.
Я не знаю другие вузы, дающие такую практику. В итоге мы регулярно получаем молодое пополнение с кафедры, где каждый год поступление новой порции студентов сопровождается конкурсом. Не обходится без трагедий, вынуждены набирать 10–12 человек, а приходит 20–30. Огорчения, слезы... Все жалуются, что молодежь стала прагматичной, малообразованной, испортилась. Но есть юноши и девушки, на которых приятно смотреть: у них горят глаза, они хотят заниматься наукой. Тем, кто прошел конкурс, даем свободу выбора лабораторий. У нас больше 40 лабораторий. Ребята ходят, смотрят, беседуют с заведующим. Выбирают то, что им нравится. И, как правило, остаются там на диплом или в аспирантуру. Я считаю, что это был очень дальновидный шаг Овчинникова — организовать учебно-научный центр и кафедру.
Конечно, жизнь совсем не простая. Достаточно сказать, что весь бюджет Академии наук сравним с бюджетом одного хорошего американского университета. Что можно сделать на эти деньги? Будем надеяться, что страна найдет силы для поддержки отечественной науки. Сейчас много пессимистов, но когда я прихожу сюда и вижу симпатичных, талантливых молодых людей, которые рвутся в бой, то чувствую прилив сил и верю, что всё получится!





















Здание Института биоорганической химии РАН. Вид сверху