Молекулы жизни и смерти
Елена Клещенко
«Химия и жизнь» №10, 2018

Конференция «Молекулярная диагностика — 2018» состоялась 27–28 октября в «Президент-отеле» в Минске. Форум собрал 640 делегатов, с докладами выступили представители 15 стран. На конференции побывала Елена Клещенко.
Что это вообще такое — «молекулярная диагностика», зачем для нее придумали особый термин и модную аббревиатуру MDx? Разве обычный биохимический анализ крови работает не с молекулами? Да, в каком-то смысле так оно и есть: не с молекулами, а с химическими веществами. Биохимический анализ крови определяет присутствие в образце и концентрации веществ из некоего перечня, и предполагается, что все молекулы этого вещества имеют в целом одно и то же строение. Молекулярная диагностика имеет дело с такими молекулами, строение которых разнообразно и не всегда известно заранее: это ДНК, РНК, бактериальные белки, антитела человека. На нынешнем уровне — возможно, с единичными уникальными молекулами. А например, молекулярная эпидемиология изучает распространение инфекционной болезни не только по статистике заболеваемости в регионах, но и сравнивая геномы вирусных штаммов, выделенных от разных больных. При таком подходе в распоряжение врачей и ученых поступает огромное количество данных, поэтому особое значение (как и во всех областях современных наук о жизни) приобретает биоинформатика.
Антибиотики и «болезнь Х»
Современные люди боятся рака, инфарктов и инсультов, а вот инфекционных заболеваний — не очень. Они кажутся излечимыми и нестрашными, а что касается СПИДа, так им заражаются только аморальные люди из групп риска. На самом деле чем дальше, чем яснее, что эта идиллическая картинка далека от истины.
Сегодня в мире около 40 млн человек инфицированы ВИЧ, не менее 10 млн больны туберкулезом, а инфицированных, вероятно, гораздо больше — по данным ВОЗ, около четверти населения земного шара; более 300 млн заражены вирусными гепатитами. Гриппом и ОРВИ болеют 20–30% популяции каждый сезон; заболевания, конечно, несмертельные (если не считать младенцев и пожилых людей в тяжелом гриппе), но давайте прикинем, сколько лет жизни в сумме каждый из нас провел с больной головой, распухшим носом и пониженной до нуля трудоспособностью. А есть еще и другие, кроме СПИДа, заболевания, передающиеся половым путем, и в них нет ровно ничего смешного. Несмотря на усилия просветителей, люди все еще мало знают о папилломавирусах, в том числе о подтипах высокого риска, которые вызывают рак шейки матки, а также другие виды раков. А клещевые инфекции? Нет, это не только в тайге. Юлия Геллер (National Institute for Health Development, Таллин) подчеркнула, что исследование природных очагов в Прибалтике практически не финансируется, но на основании имеющихся данных можно предположить, что переносимые клещами патогены встречаются в Эстонии повсеместно. Клещевые инфекции — проблема и для Беларуси, 40% территории которой покрыта лесами. Как рассказала Людмила Карань (ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора), постоянный очаг клещевого энцефалита недавно выявлен на территории Москвы.
Кроме известных нам, существуют и неизвестные заболевания. Кто знает, сколько инфекционных агентов персистируют в популяциях животных, но могут передаваться человеку? Так произошло с тем же ВИЧ — вирус иммунодефицита обезьян, как теперь известно, передался человеку, скорее всего, при употреблении в пищу обезьяньего мяса. Вирусом Эбола человек также может заразиться от животных, и кто может сказать, сколько еще у природы подобных сюрпризов? Специалисты ВОЗ прогнозируют появление «болезни Х» — пандемии, которая убьет миллионы людей. Неизвестно, что это будет за болезнь, что за возбудитель ее вызовет. Исходя из всего, что мы знаем о людях и микроорганизмах, гарантировать можно одно: она придет. Сейчас много говорят, например, о вирусе обезьяньей оспы: выяснилось, что он передается не только от животных людям, но и от человека к человеку. Летальность оценивается «всего» в 10%, но кто поручится, что вирус не станет более патогенным в результате мутации?

Это что касается естественных угроз. Однако не следует сбрасывать со счетов и угрозы антропогенные — биопреступления, биотерроризм, непреднамеренное создание опасных биообъектов. Биологическое оружие запрещено Женевской конвенцией 1925 года, но плохие парни могут играть и не по правилам, а доступность биотехнологий растет с каждым годом. Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, выступая на пленарном заседании в первый день конференции, упомянула гаражные биотехнологии как потенциальную угрозу национальной безопасности. Гаражный биотех назван так по аналогии с «гаражными изобретениями» — сейчас на самом деле необязательно работать в профильном институте, чтобы выделить ДНК и создать генно-модифицированную бактерию. Не то чтобы это было совсем просто, но теоретически уже возможно.
С другой стороны, можно не беспокоиться о сумасшедшем ученом, создающем у себя на кухне адскую чуму, когда к появлению супербактерий, вызывающих неизлечимые заболевания, приложил руку почти каждый из нас. Признавайся, читатель: назначал антибиотики сам себе? Прекращал самовольно курс антибиотиков, назначенный доктором? Поздравляем, ты враг человечества. Впрочем, и доктор не без греха, если выписал антибиотик «на всякий случай».
О проблеме лекарственной устойчивости микроорганизмов на конференции говорилось много. Проблема эта в последние пять лет обсуждается на самом высоком уровне. Одним из катализаторов послужило выступление в Давосе в 2014 году выдающегося британского экономиста Джима О’Нила. Самый впечатляющий его прогноз, который цитируют все, — если лекарственная устойчивость будет прогрессировать теми же темпами, что сейчас, то к 2050 году 10 млн человек ежегодно будет умирать от инфекционных заболеваний. Фактически мы вернемся в эру до открытия антибиотиков, к ситуации, знакомой нам из художественной литературы: туберкулез — приговор, воспаление легких — смертельно опасное заболевание, почти каждый взрослый человек в детстве видел смерть брата, сестры или товарища по играм. После такого о деньгах говорить неловко, и все же: сопутствующий ущерб мировому ВВП составит 8%, или более 210 триллионов долларов. Просто вообразите, что мы снова не умеем лечить туберкулез, только нас намного больше, чем в XIX веке, и живем мы теснее.
В 2016 году проблема антибиотикорезистентности обсуждалась на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, а в сентябре 2017 года было опубликовано распоряжение правительства РФ по предупреждению и ограничению распространения антимикробной резистентности. Каждая страна должна будет принять меры и отчитаться в этом перед мировым сообществом. Как отметил член-корреспондент РАН Роман Козлов (Смоленский государственный медицинский университет МЗ РФ), «то, что обсуждали в профессиональной среде, стало предметом обсуждения на государственном уровне, а без государственной поддержки эту проблему решить невозможно».

Роман Козлов
Понятно, что для решения ее нужно прежде всего повысить грамотность врачей и пациентов. Каждый антибиотик — невосстановимый ресурс человечества, назначать их надо по делу, а назначив — принимать до конца, не оставляя бактериям, пережившим первые дозы (то есть тем, которые обладают некоторой устойчивостью) шанса на спасение. Роман Козлов отметил, что особая проблема для России — деятельность антивакцинального лобби: люди отказываются от положенных прививок, коллективный иммунитет падает, в результате даже относительно безвредные бактерии могут выйти из-под контроля.
Но мы не победим ни старые инфекции, ни новые, ни антибиотикорезистентные, если не будем развивать молекулярную диагностику. Постановка диагноза по симптомам — это упущенное драгоценное время: далеко зашедшее развитие болезни, случаи инфицирования, которых могло бы не быть, если бы человек раньше узнал диагноз. Ту же антибиотикорезистентность можно выявить старым добрым микробиологическим методом, выращивая клетки на агаре с добавлением интересующего антибиотика, но это займет дни. А можно отсеквенировать ДНК бактерии и сразу ответить на вопрос: есть ли у нее гены резистентности к конкретному антибиотику? И это позволит назначить лекарство осмысленно, а не «попейте пока тетрациклин, и посмотрим на динамику». На современном этапе обеспечение биологической безопасности невозможно без молекулярной диагностики.
Геномы людей и геномы клеток
Понятно, что инфекционные болезни были в центре внимания у организаторов конференции. Но есть и другие аспекты, о которых нельзя забывать, например наследственные заболевания. И опять же не следует думать, что это случается с кем угодно, только не с нами и нашими детьми. Член-корреспондент РАН Сергей Куцев (Медико-генетический научный центр РАН, Москва) привел такую статистику: 5% новорожденных имеют наследственные или врожденные заболевания, 80% из них проявляются в младшем возрасте и отвечают за 40% случаев ранней детской смертности. А диагностика до сих пор зачастую остается симптоматической.
Существуют системы неонатального скрининга. Например, в большинстве американских штатов обязательный скрининг новорожденных включает 34 заболевания, в штате Нью-Йорк около 50. Исследуют, как правило, не гены, а маркеры в крови методами масс-спектрометрии. В России новорожденных проверяют на пять заболеваний: фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром. Это знакомый молодым мамам пяточный тест: из пятки младенца берут несколько капель крови, которые помещают на специальную бумагу. В некоторых регионах тестируют до 11 наследственных патологий, за деньги, в диагностических фирмах, можно проверить больше. За рубежом появляются и коммерческие тесты, ориентированные на гены.
Конечно, если скрининговый тест дал положительный результат, необходимо выполнить подтверждающий тест, чтобы узнать наверняка, прежде чем паниковать. Но даже когда результат положительный — в некоторых случаях это хорошая новость, если узнать ее рано: вовремя начатая терапия или простая коррекция диеты не позволят развиться патологии, ребенок вырастет практически здоровым. Сергей Куцев привел данные сравнительного исследования двух групп пациентов: у 178 человек наследственные заболевания были выявлены при скрининге, а у 142 — клинически. Тяжелые исходы у первой группы наблюдались всего в 2% случаев, а у второй — в 42%.
Есть и другой вариант — НИПТ, неинвазивное пренатальное тестирование. Новость последних лет — «жидкая биопсия», то есть определение ДНК плода в крови матери. Взятие крови намного менее травматично, чем настоящая биопсия, а мощность современных методов анализа ДНК позволяет выявлять таким образом, например, трисомии (лишние хромосомы).
Помимо однозначно патогенных мутаций есть и другие — отвечающие за мультигенные заболевания, то есть такие, которые связаны с состоянием множества генов. Подобных заболеваний намного больше, чем моногенных, вроде гемофилии, и их изучение, по сути, только начинается. Как сказал член-корреспондент РАН Дмитрий Сычев (Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования МЗ РФ, Москва), подход «ген-кандидат» уходит в историю. Его сменяет полногеномный ассоциативный анализ, он же полногеномный поиск ассоциаций, или GWAS — масштабное исследование, в котором сопоставляются некий фенотип, например болезнь или ее отсутствие, и генетические особенности. Если у здоровых людей в определенном месте определенного гена чаще стоит нуклеотид Т, а у больных G, можно предположить, что именно это отличие связано с болезнью, и таких значимых отличий иногда находят сотни для одной болезни. Это уже епархия персонализированной медицины, как и исследование генов, отвечающих за метаболизм лекарственных препаратов. Клиническая фармакология ближайшего будущего будет назначать больному лекарства, сообразуясь с его генетической картой.
Важнейшая область медицинской генетики — онкогенетика. Сейчас никто не спорит с тем, что нет единого заболевания под названием «рак», это слово объединяет множество болезней, которые надо по-разному лечить. И в основе их разнообразия лежат генетические изменения. Современная классификация онкологических заболеваний — уже не морфологическая, а молекулярная, она использует полимеразную цепную реакцию (ПЦР) или высокопроизводительное секвенирование. «Морфолог, который не имеет связей с генетической лабораторией, не имеет права ставить диагноз», — сказала Анна Портянко (Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, Минск).
Член-корреспондент НАНБ Ольга Алейникова (Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии Минздрава Республики Беларусь, Минск) сделала сообщение о молекулярной диагностике в детской онкологии — эта область прекрасна тем, что из нее чаще приходят хорошие новости, некоторые ранние раки переходят в категорию излечимых. Практически нет ни одной лейкемии, где в патогенезе не лежала бы та или иная молекулярная поломка, но не все они одинаково опасны: при одних удается вылечить четверых из пяти детей, при других — лишь каждого третьего. Молекулярная диагностика позволяет дать прогноз и выбрать оптимальное лечение.
NGS и MALDI-TOF
Конечно, на конференции не обошлось без разговора о методах, которые делают возможными все эти замечательные исследования, позволяют ставить такие вопросы, как «насколько разнообразны вирусы внутри одного пациента», «как эволюционирует геном опухоли» и «давайте быстро узнаем, убьет ли эту бактерию рифампицин». Секция, посвященная NGS — next generation sequencing, оно же высокопроизводительное или массовое параллельное секвенирование, — началась в 8:30 утра, и зал был полон.
Напомним, почему next generation. Секвенированием первого поколения сейчас называют секвенирование по Сэнгеру (см. «Химию и жизнь № 8, 2018) — классический метод, который когда-то лег в основу первых приборов для автоматического секвенирования, да и по сей день считается наиболее надежным. «Секвенирование следующего поколения», оно же «высокопроизводительное», — собирательное название множества методов, которые появились после 2000 года и не используют сэнгеровскую технологию. Они основаны на разнообразных принципах, общее у них то, что читается одновременно множество нитей ДНК, зато довольно коротких — как правило, сотни нуклеотидов, а затем программное обеспечение состыковывает прочтенные кусочки текста в единую последовательность.
К NGS относится, например, секвенирование Solexa (Illumina), то есть технология, разработанная в компании Solexa, позднее приобретенной компанией Illumina. Суть ее в том, что, когда к цепочке ДНК присоединяется очередной нуклеотид, комплементарный исследуемой цепочке, прибор регистрирует вспышку — каждый из четырех нуклеотидов несет флуоресцентную метку своего цвета. «Иллюмина» сегодня — один из лидеров рынка. Компания Thermo Fisher Scientific предлагает клиентам ионное полупроводниковое секвенирование — оно основано на регистрации протона Н+, который высвобождается, когда к цепочке присоединяется очередной нуклеотид.
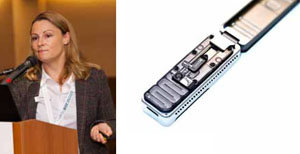
Луиза Ладбрук. Справа — MinION — карманный секвенатор компании Oxford Nanopore
А вот то, что предлагает своим клиентам британская компания Oxford Nanopore Technologies, — это уже секвенирование третьего поколения. Нанопоровое секвенирование — очень элегантный метод: молекула ДНК или РНК протаскивается через пору в мембране, помещенной в специальную камеру с раствором; по разные стороны от мембраны есть разность потенциалов. В зависимости от того, какое азотистое основание проходит сквозь пору, сила тока падает и снова растет. Эти колебания регистрируются, и по ним восстанавливается нуклеотидная последовательность! Недостаток метода — его относительно низкая точность, а преимущества — возможность работать с буквально единичными молекулами и фантастически длинные прочтения (риды), то есть последовательности, которые можно считать с одного фрагмента ДНК. Как напомнила в своем докладе Луиза Ладбрук (отдел продаж Oxford Nanopore Technologies, Великобритания), в этом году была достигнута рекордная длина рида — более 2 200 000 нуклеотидов. Два с лишним миллиона! Новый прибор Oxford Nanopore, PromethION, может прочитать 7 терабаз за 48 часов. Еще один важный плюс нанопоровских секвенаторов — их компактность: многие из них выглядят, как карманные устройства, подключаемые через USB-порт к ноутбуку или смартфону. Идея в том, чтобы секвенировать всегда и везде, определять геномы вирусов, растений и животных в полевых условиях, быстро и относительно недорого. Однако эти секвенаторы приобретают и стационарные лаборатории для решения серьезных экспериментальных задач.
Олег Гусев (RIKEN — Казанский федеральный университет), много лет работающий в Японии, рассказал о консорциуме MUSCLE-FANTOM — совместном проекте института японского института RIKEN и КФУ. Это первый консорциум по геномике, которым руководят русские исследователи. Он возник как продолжение знаменитого проекта FANTOM, который занимается некодирующей частью генома млекопитающих, — тем, что раньше легкомысленно называли мусорной ДНК. Как выяснилось, этот «мусор» регулирует активность генов, поэтому «осмысленная» часть, кодирующая белки, без него ничто. MUSCLE-FANTOM исследует механизмы формирования и ремоделинга мышц человека, активность промоторов и энхансеров транскрипции РНК в мышечной ткани в норме и при патологии. Оказывается, множество мутаций, связанных с болезнями, находится вовсе не в кодирующих областях, которые обычно секвенируют, а в тех же энхансерах. А для этих исследований необходимы современные технологии NGS. Я спросила Олега Гусева, почему они выбрали нанопоровое секвенирование, как-никак метод новый, непривычный. Оказалось, именно из-за длинных ридов: для задач проекта бывает важно прочесть целиком полноразмерную РНК: «Иллюминовские короткие прочтения этого не могут дать. Здесь приходит на помощь Oxford Nanopore».

Олег Гусев и Герман Шипулин
Многие доклады на этой секции были посвящены нетривиальным применениям высокопроизводительного секвенирования, не всегда именно медицинским. Камиль Хафизов (ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва) рассказал о проекте, совместном со Сколтехом, по анализу продуктов питания растительного происхождения, например чая. «То, что вы завариваете, — далеко не всегда то, что написано на коробочке. А попутно там еще много плесневых грибов обычно, так что вы завариваете грибы», — пояснил Хафизов. Об анализе пчелиного меда с помощью NGS подробнее рассказала Анна Сперанская (ЦНИИЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова; Сколковский институт науки и технологий, Москва). Когда продавец называет свой мед «липовым» или «гречишным», он не обязательно врет — возможно, он честно вспоминает, какие растения цвели во время сбора, но вряд ли знает точно, к этим ли растениям летали его пчелы, или, может быть, к каким-то другим. Это можно проверить с помощью анализа пыльцы под микроскопом, но данный метод не всегда позволяет определить растение до вида и требует высокой квалификации. А вот секвенирование определенных участков ДНК растений (баркодов) дает более точный ответ. В конце доклада Анна добавила, что коллеги всегда с интересом следят за их работой, спрашивают, не закончен ли уже ДНК-анализ вот этой баночки и нельзя ли перейти к органолептическому исследованию содержимого...
Павел Скумс (факультет информатики Университета штата Джорджия) рассказал о молекулярно-биоинформатических детективах — о том, как на современном этапе расследуются вспышки вирусных заболеваний. В этих историях не всегда виноваты природа и чье-то невезение. Бывает, что озлобленный человек, зная, что у него вирус, нарочно игнорирует меры безопасности, бывает и похуже — наркозависимый медработник ворует обезболивающие у пациентов, не меняет шприц и заражает множество людей вирусным гепатитом. Кроме того, и при расследовании самых обычных эпидемий важно бывает установить ее начало. В этой области технологии NGS совершили прорыв — там, где раньше удавалось получить один вирусный геном, теперь получают несколько десятков, а сравнение мутаций в этих геномах (конечно, не на глазок, а с помощью методов биоинформатики) позволяет установить, кто из них от кого произошел и, соответственно, кто кому передал вирус. В этом исследовании можно учитывать не только информацию о геномах, но и то, что происходит в макромире, например, эпидемиологические данные или математические свойства социальных связей, объединяющих людей (последнее умеет делать алгоритм QUENTIN, разработанный докладчиком с коллегами).
Кроме высокопроизводительного секвенирования, есть ДНК-микрочипы. Принцип метода следующий: к чипу пришиваются ДНК-зонды, комплементарные определенным последовательностям. Если с конкретным зондом гибридизуется ДНК образца, в данной точке при лазерном сканировании чипа появляется флуоресцентное свечение — это значит, что данная последовательность есть в анализируемой ДНК. Во многих случаях практичнее использовать их, а не NGS. Для анализа белков широко применяются иммуночипы с антителами к специфическим белкам — например, к тем, что характерны для патогенных бактерий.
Секвенирование нуклеиновых кислот — наше всё, но в последнее время много говорят о новом аналитическом методе: MALDI-TOF. Метод MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption / Ionization) основан на получении масс-спектра компонентов под действием коротких высокоинтенсивных импульсов лазера. Для идентификации биомолекул он применяется в сочетании с технологией TOF (time of flight) — разделения ионов в вакууме на основе разного времени их пролета. С помощью MALDI-TOF уже определяют и видовую принадлежность патогенов, и антибиотикорезистентность бактерий, и даже то, не выпивал ли пациент в последние недели (ничего смешного: при патологиях печени бывает жизненно важно убедиться, что больной не лжет врачу на этот счет).

Герман Шипулин
О ситуации с молекулярной диагностикой в России рассказал на пленарном заседании Герман Шипулин (ЦНИИЭ Роспотребнадзора), ответственный секретарь оргкомитета и один из самых главных организаторов конференции. В РФ сейчас свыше 5000 лабораторий молекулярной диагностики. Установлено около 500 приборов для секвенирования по Сэнгеру и около 200 — для NGS. (Это мало: Олег Гусев иронично заметил, что в Китае отсеквенировано больше геномов собак, чем у нас — людей. Но радует положительная динамика.) Вопрос с реагентами практически решен благодаря производству в ЦНИИЭ, компаниям «ДНК-технология», «Вектор-Бест». Понятно, что наши реагенты адаптированы к приборам иностранных фирм. Тем не менее первый отечественный капиллярный секвенатор «Нанофор-05» от компании «Синтол» уже неплохо себя показал. Технологиями одномолекулярного секвенирования занимается российская компания «ГАММА-ДНК» в Сколково, создание NGS-секвенатора планирует и «Синтол».
Вместо заключения
Помните «Колыбель для кошки» Курта Воннегута, Четырнадцатый том сочинений Боконона? «Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?» — «Прочесть Четырнадцатый том недолго. Он состоит всего из одного слова и точки: „Нет“». Трудно не процитировать классика, когда думаешь обо всем этом. О «болезни Х», о растущей численности городского населения и бедности стран третьего мира. О человеческой глупости, которая мешает соблюдать элементарные меры безопасности, побуждает покупать в аптеке антибиотик «просто так» и прекращать его пить на третий день. О той разновидности глупости, которая радуется эпидемии в чужой стране и не понимает, что это аплодисменты пожару в соседской квартире, — патогены не знают, что такое государственные границы. Об откровенно суицидальной активности антипрививочников и ВИЧ-отрицателей. О медленной реакции руководящих органов всех стран. Но потом посмотришь в зал во время доклада — врачи, ученые, производители приборов и реагентов, люди, принимающие решения на всех уровнях; Россия, Беларусь, Украина, Прибалтика, Казахстан, США, Великобритания, Китай, Япония... Столько людей, которые понимают, что происходит, и знают, что делать. Все же есть небольшая надежда, что человечество сдаст экзамен на выживание.













Выступает Анна Попова