Мегабиология
Г. А. Заварзин
«Природа» №8, 2008
Мегабиология изучает биологические процессы в масштабе миллионов и миллиардов тонн превращения веществ в биогеохимических циклах. Эта наука, развившаяся в последние десятилетия в связи с интересом к глобальным изменениям среды, и прежде всего климата, связана с оценкой явлений по их масштабу. Единицей измерения здесь служат миллионы тонн, или мегатонны (Мт), вещества в региональном масштабе, а глобальные потоки составляют Гт/год, или миллиарды тонн, 1015г/год. Величины потоков и резервуаров обычно оценивают геологи и геохимики, используя методы этих наук. Вне области мегабиологии в биосфере находятся процессы физического преобразования и перемещения веществ, растворения, кристаллизации, гидротермальные процессы, фотохимические реакции в атмосфере. Эти процессы относятся к области наук о Земле, с географической оболочкой как вместилищем биосферы. Таким образом, мегабиология безусловно входит в биогеохимию глобальных и региональных процессов и тесно связана с географией.
Мегабиология прежде всего предполагает смену традиционных приоритетов от уникальных сенсационных явлений к массовым и потому якобы банальным. Такая расстановка приоритетов яснее всего выявляется при построении количественных моделей. В мегабиологии опенок и сфагновые мхи оказываются несопоставимо значимее, чем пятнистый олень или амурский тигр. Мегабиология рассматривает преимущественно региональные биомы и дает количественную оценку происходящих в них процессов. Масштаб мегабиологии заставляет изменять размерную шкалу интересов. Так, в физиологии сосудистых растений преимущественное значение по сравнению с пикосекундными процессами фотосинтеза приобретают геобиофизические процессы, в которых важны транспортные потоки, например воды при эвапотранспирации, в сотни раз превышающие потоки ассимилируемого углерода. В отличие от стремления к познанию элементарных процессов, мегабиология ставит своей задачей интегральные процессы в системах. Иная иерархия приоритетов в мегабиологии вызывает психологические затруднения при междисциплинарном общении. Парадоксально, наиболее важным для мегабиологии оказывается понимание деятельности микроорганизмов, т. е. микробиология.
К области мегабиологии относятся биогеохимические циклы: органического (Сорг) и неорганического углерода (Снеорг), кислорода, азота, серы, отложений карбонатов кальция и магния, кальция, цикл фосфора, завершающийся образованием фосфоритов, железа и марганца, кремнезема. Первое место занимает цикл органического углерода, реализация которого полностью контролируется биотой. Важнейшую часть мегабиологии составляет микробиология, поскольку и сейчас главным образом микроорганизмы катализируют круговороты веществ, изначально полностью обусловленных деятельностью микроорганизмов [1]. В расшифровке биогенных процессов участвуют в первую очередь микробиологи.
К числу биологически опосредованных процессов, к которым относятся превращения веществ в биотически измененной среде, происходящие спонтанно, без прямого катализа организмами, следует отнести: реакции выветривания с образованием алюмосиликатов как конечных продуктов; раннего диагенеза в биотически контролируемой среде; сорбции, в которых сорбентом служат тела микроорганизмов или же продуцируемые ими неклеточные вещества; трансформации минералов соответственно биотически устанавливаемым окислительно-восстановительным условиям.
Особого внимания заслуживает почва как субаэральная среда обитания. В ее образовании как биокосного тела первое место занимает литогенный путь, ведущий к формированию глинистых минералов, а второе — биогенный, способствующий образованию гумуса как устойчивого органического вещества. Выветривание горных пород происходит после гидратации СО2 химическим путем при растворении или же с участием фермента карбоангидразы. Высокая локальная концентрация СО2 возникает при разложении частиц органического вещества, первоначально синтезированного из углекислоты атмосферы первичными продуцентами, а затем перешедшего в состояние мортмассы. Глинистые минералы формируются из компонентов алюмосиликатного скелета литогенных минералов. Образование гумуса включает разложение органического вещества с синтезом высокомолекулярных устойчивых органических соединений. Картину событий в самых общих чертах можно представить следующей схемой (рис. 1).

В актуалистическом подходе главный предмет изучения мегабиологии составляют процессы седиментогенеза (накопления и преобразования осадков) и выветривания, в итоге образующие коры выветривания и почвы («soil» в широком смысле слова). Наиболее очевидными областями применения подходов мегабиологии служат химический состав атмосферы, поскольку биогенные элементы, за исключением фосфора, обладают воздушной формой миграции, а в прошлом — осадочные породы биогенного происхождения и литогенез.
Наиболее интенсивно мегатоннажные биологические процессы протекают в продукционном фотическом слое океана и в почвенно-растительном покрове. Если продукционные слои океана имеют относительно ясную структуру и помимо цикла углерода там идут масштабные процессы, связанные с циклами кальция и кремния, то положение с почвой значительно сложнее. Растительный покров пересекает три среды: приземный слой атмосферы (аэротоп, где идут автотрофный фотосинтез и эвапотранспирация), транспортную колонну сосудистого стебля, подземную гетеротрофную часть, взаимодействующую с почвенным раствором. Здесь из мортмассы создается резервуар относительно инертного органического вещества, который оценивается в 1500 Гт Сорг для мира, в то время как динамический резервуар наземной растительности составляет 550 Гт Сорг. Для России соответствующие цифры составляют 296 Гт органического углерода в почвах и 39,8 Гт в растительности [2]. Под почвой располагается кора выветривания. Литогенные минералы в почве трансформируются в педогенные. Почвенные растворы участвуют в формировании вод суши, и поверхностных, и подземных, которые первоначально фильтруются через почву. Таким образом, почва с растительным покровом представляет концентрированную область процессов мегабиологии. Однако приходится признать, что почвоведение природных ландшафтов как у нас в стране, так и в мире находится на обочине сознания естествоиспытателей, заслоненное вниманием к агробиоценозам и их продуктивности. Интерес к глобальным изменениям природной среды заставляет сместить приоритеты в почвоведении.
Карбонаты и цианобактериальное сообщество
Для существования биосферы первостепенное значение имели два процесса, обусловившие состав атмосферы Земли: удаление из нее избыточного количества диоксида углерода, поступившего при дегазации планеты, и частичная его замена эквивалентным количеством кислорода, что привело к окислительному характеру процессов на поверхности контакта с воздушной средой.
Дегазация осуществляется в цикле неорганического углерода и сопряжена с циклами Са и Mg: избыточная СО2 связывается в нерастворимые карбонаты с захоронением их в осадочных оболочках и последующим рециклом. Процесс обусловлен извлечением Са и Mg из изверженных пород в водной среде согласно условному равновесию CaSiO3 + СО2 ↔ СаСО3↓ + SiО2↓. Реакция имеет место дважды: сначала в зоне подводных гидротерм при контакте свежих изверженных пород с СО2 и Н2О; затем субаэрально при углекислотном выветривании пород. Подводная реакция серпентинизации ограничивает перенасыщение океана углекислотой дегазации и последующий вынос СО2 в атмосферу. В атмосферном гидрологическом цикле СО2 поглощается из воздуха и мигрирует в виде бикарбонатных растворов до бассейнов седиментации. Карбонаты осаждаются в теплых мелководных морях при нарушении рН-зависимого равновесия Са2+ + 2НСО3– = СаСО3 + ↑СО2 + Н2О в результате снижения растворимости СО2(газ). Спонтанную физико-химическую реакцию гидратации в биотических условиях катализирует фермент карбоангидраза.
Установлено, что в протерозое и, вероятно, в позднем архее отложение карбонатов в виде доломитов соответствовало развитию цианобактериального сообщества, образующего слоистые биогенно-осадочные породы — строматолиты. В фанерозое действовал преимущественно рецикл СО2, обусловленный метаморфизмом карбонатных осадков и биогенным осаждением известняков. В протерозое в основном формировались кислотоустойчивые формы карбонатов в виде доломита CaMg(CО3)2 с соотношением Са : Mg = 1 : 1. Такой же состав имеют доломитовые породы, но они могут быть сложены магнезиальными кальцитами или же содержать существенные примеси СаСО3 (кальцит, арагонит) и MgCО3 (магнезит, который осаждается при более высоком рН, чем кальцит). Принимается, что доломиты полифациальны и полигенетичны. Образование доломита и его связь с цианобактериальными сообществами можно объяснять либо физико-химическими условиями гидросферы протерозоя, благоприятными и для цианобактерий, и для осаждения доломита, либо тем, что благоприятные для образования доломитов условия создавало цианобактериальное сообщество.
Накопление неорганического углерода карбонатов сопряжено с мобилизацией кальция и магния. В истории Земли известняки начинают снова преобладать с распространением эукариот и внутриклеточным синтезом скелетных структур. Доломиты устойчивы к воздействию кислот и поэтому могут сохраняться при микробном брожении. Сульфидогены удаляют органические кислоты. Участие сульфатредукторов в образовании первичного доломита сейчас доказано на примере чистой культуры алкалофильного Desulfonatronovibrio hydrogenovorans. При полигенетичности доломитов нужно искать какой-то иной общий фактор кристаллизации карбонатов в этой форме. К этим факторам безусловно относятся щелочная среда и повышенное содержание магния и солей (в соленых водоемах), но желательно пониженное содержание сульфатов (хотя сульфиды могут присутствовать). Образованию карбонатов способствуют окислительные условия. Однако пока получить доломиты в лабораторных условиях с цианобактериальным сообществом не удалось. Образуются магнезиальные кальциты.
Накопление кислорода в атмосфере происходит благодаря избыточным продуктам окси-генного фотосинтеза, образующимся в соответствии с балансовым уравнением СО2 + Н2О = [СН2О] + О2. Дисбаланс в глобальном масштабе определяют устойчивые, не подлежащие окислению, соединения восстановленного углерода, возникающие в ходе деструкции или захоронения и выведенные из цикла. Последовательность реакций здесь такова:
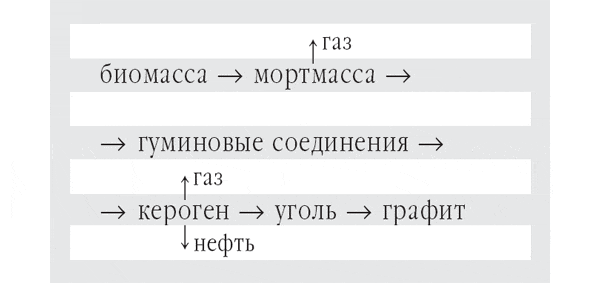
Деоксигенированные углеводороды газа (преимущественно метан) и нефти при поступлении в среду с окислителем могут окисляться микроорганизмами до СО2, но дегидрогенизированный уголь остается биологически инертным. Порогом между органическим веществом и предшественниками горючих ископаемых служит переход из аэробной зоны в анаэробную (так образовались предшественники нефти в зоне Персидского залива). Начиная с гуминовых соединений, последовательность реакций представляет абиотические превращения в процессе диагенеза или катагенеза. Ключевой этап в выводе соединений органического углерода из цикла составляет реакция мортмасса → гуминовые соединения. Хотя четких представлений о том, как она происходит, нет, но масштаб процесса, безусловно, мегатоннажный.
При захоронении биомассы в тонкодисперсных осадках (приводящем, например, к образованию горючих сланцев) существует переход мортмасса → кероген. Оба перехода осуществляются в биотически контролируемых условиях раннего диагенеза, т. е. биотически опосредованно. Вместе с тем компоненты биомассы превращаются в недоступные для действия микроорганизмов органические соединения в силу физических и химических причин (рис. 2).

Вопрос состоит в том, преобразуются ли органические вещества в гумус в результате чисто химических реакций, опосредованно биогенно, или же благодаря побочному действию ферментов? Формирование гумуса представляет переход в область замедленных биотических процессов и служит своего рода клапаном-ловушкой для Сорг, определяющим биогеохимическую сукцессию в системе. Образование гумуса представляет масштабное отступление от правила Виноградского, согласно которому все синтезируемые биотой вещества подвергаются микробной деструкции.
В середине прошлого века М. М. Кононова предположила, что гуминовые вещества образуются в результате гомогенной фенольной конденсации. Она ведет к возникновению поликонденсированного высокомолекулярного соединения, которое вследствие своего нерегулярного строения энзиматически не разлагается, а разрушается под действием неспецифических агентов, таких как активный кислород. Образовавшиеся в растворе полимерные соединения могут сорбироваться на твердых поверхностях, создавая защитный слой. Недавно А. Г. Заварзина предложила альтернативную гипотезу ферментативного гетерогенного катализа. Она заключается в том, что на твердой поверхности, обычно модифицированной гидроокислами (например, алюминия), сорбируются низкомолекулярные предшественники, которые под действием сорбированных экзоферментов (например, полифенолоксидаз) конденсируются в виде нарастающей пленки с образованием макромолекулярных продуктов >75 кД. При гетерогенном катализе преодолевается концентрационное ограничение. Такое полимерное покрытие защищает материал от разрушения. Вероятно, возможны как гомогенная, так и гетерогенная поликонденсация. Масштабы конденсации с образованием гуминовых соединений для России составляют величину порядка нескольких сотен мегатонн Сорг в год.
Для мегабиологии существенно воздействие биоты на циклы неорганического и органического углерода, который есть главное геохимическое выражение деятельности биосферы. Для биолога важно отметить резкое противопоставление двух процессов: во-первых, удаление СО2 атмосферы в карбонатные породы в присутствии строматолитобразующих цианобактериальных сообществ, часто с локальными красноцветами, но с низким содержанием остаточного органического вещества; во-вторых, сохранение О2 атмосферы за счет эквивалентного геологического захоронения Сорг в глинистых терригенных породах. Существует дилемма: либо диоксид углерода уходит в карбонаты в результате полного окисления органического вещества, либо сохранение Сорг приводит к накоплению кислорода. В обоих случаях ключевое значение имеет микробная деструкция в сообществе продуцентов-цианобактерий с бактериями-деструкторами. Окислительные условия сами по себе, несмотря на высокую продукцию оксигенного фотосинтеза, не служат источником кислорода атмосферы. В глобальном балансе его обеспечивают восстановительные условия с неполным разложением органического углерода из-за физического захоронения.
На глинистом субстрате цианобактериальная пленка не успевает разложиться либо из-за быстрого захоронения, либо вследствие медленного ацетогенного и метаногенного анаэробного распада в отсутствие серы. Индикатором восстановительных условий служит отношение Fe(II)/Fe(III). В настоящее время за деструкцию отвечают аэробные организмы, но в раннем докембрии при дефиците кислорода создавались условия для рассеяния фотосинтетического кислорода в атмосфере. Для быстрого захоронения терригенного материала особенно благоприятен снос с глинистыми потоками в водотоки и осаждение коллоидов (при коагуляции) в условиях несколько повышенной солености бассейна седиментации. Отсюда имеет значение развитие цианобактерий на глинистом грунте и их участие в образовании сапропеля. Оба процесса идут при низком содержании соединений серы. Примером могут служить углеродистые породы архея и преимущественно протерозоя юго-востока Балтийского щита, образовывавшиеся в пресных водах — шунгиты. Другую сторону проблемы представляет новообразование глинистых (почвенных) минералов в отличие от тонкой фракции литогенных минералов.
В современном цианобактериальном сообществе в присутствии сульфатов органическое вещество полностью распадается в трофической цепи: Сорг → аэробные органотрофные деструкторы → анаэробные деструкторы → (ацетат и Н2) → сульфатредукторы → (H2S) → серные аноксигенные бактерии → (SО42–). Окислительным процессам способствует избыток кислорода, физически удерживаемого цианобактериальным сообществом в виде пузырьков и создающего локальное пересыщение.
Ключевой механизм мегабиологии в ее взаимодействии с геосферой есть результат взаимодействий микроб — минерал.
История биосферы
Самостоятельным аспектом мегабиологии служит крупномасштабная история биосферы, которую можно разделить на историю трех основных экосистем: океана, моря и континента.
История глубокого океана определяется циклом органического углерода в продукционном верхнем слое фотосинтеза и, неизмеримо меньше по масштабу, — хемосинтезом глубинных гидротермальных источников. В биосферном плане глубокий океан — область доминирования физических и химических процессов. В геологическом плане это область подвижного океанического дна с сильным влиянием эндогенных процессов, обновляющаяся за ~200 Ма и поэтому не сохранившая древней осадочной летописи, с зонами биогенных карбонатных осадков до уровня компенсации вследствие повышения растворимости СО2, биогенных силикатов (радиоляриевые илы), глубоководных красных глин.
Моря (здесь под ними подразумеваются участки континентальной коры, находящиеся под сообщающейся с океаном водой) — это основные области осадконакопления и главный источник геологической и палеонтологической летописи. Особое место занимают эпиконтинентальные моря талассократических эпох. Континенты — это наземные экосистемы и области субаэрального выветривания и денудации.
Для грубой временной оценки шкалу удобно разделить на удваиваемые по продолжительности периоды от 0 (настоящее время) до 300 Ма (сосудистая растительность), до 600 Ма (скелетная фауна), до 1200 Ма (начало доминирования эукариот), до 2400 Ма (цианобактериальное сообщество), до 4600 Ма (начальные этапы жизни с 3800 Ма с возможным участием гидрогенотрофных хемосинтетиков глубинной биосферы и возникновение Земли).
Экосистема каждого периода должна быть функционально полноценной, т. е. включать продуценты и деструкторы; последние, особенно для морских систем, могут содержать консументы (фаго- и зоотрофы). Такая система приблизительно замкнута по циклу органического углерода, с которым стехиометрически сопряжены циклы биогенных элементов, в первую очередь азота и фосфора. Для каждой экосистемы и для каждого периода должна быть построена трофическая пирамида, в основании которой лежат доминирующие продуценты.
Количественной мерой деятельности биосферы служит цикл органического углерода, который определяется использованием фотосинтетически активной радиации (ФАР) продуцентами. Относительное постоянство ФАР (возрастание на ~25% за историю Земли) ответственно за постоянство глобальной первичной продукции порядка сотни Гт Сорг/год, обусловленной покровом хлорофилла на единицу заселенной примерно постоянной площади, причем плотность хлорофилла стремится к возможному максимуму. Цикл углерода за последние 20 лет стал предметом особого внимания в связи с глобальными изменениями климата. Существует ряд балансовых подсчетов. Определяющим для накопления Сорг в геологическом масштабе оказывается не только (возможно, и не столько) первичная продукция фотосинтеза, сколько ограничение микробной деструкции, например анаэробиозом. Деятельность наземной биоты определяется гидротермическим режимом вегетационного периода, при этом гидрологическая составляющая имеет едва ли не большее значение.
Доступная для фотосинтеза поверхность планеты обусловлена теократическими или талассократическими эпохами, связанными с эвстатическими колебаниями уровня океана. В той же мере должна меняться и первичная продукция. Колебания уровня океана связаны с климатическими условиями: в эпохи обледенения уровень его ниже. Естественны колебания доступной для фотосинтеза поверхности в периоды теплой и холодной биосферы. Общую картину периодичности мегабиологии можно отразить как соотношение эпох и экосистем с доминирующими экосистемами (рис. 3).

История биоты показывает, что новые группы организмов вписываются в уже существующие функциональные группировки, сохраняющиеся в ходе эволюции. В начале последовательности трофических пирамид лежит наиболее древняя продукционная система океана с цианобактериями пикопланктона, а затем планктонными водорослями-протистами (с заменой бесскелетных эвкариотных водорослей на известковые и диатомовые, последние вместе с радиоляриями знаменуют начало биотического цикла кремния). Океанская система лимитируется минеральными элементами — биогенами. Продукционная система моря помимо планктона также включает многоклеточные водоросли, сменившие цианобактериальные маты на литорали, и менее ограничена биогенами ввиду континентального сноса. Современная наземная система основана на сосудистых растениях и мицелиальных грибах-деструкторах. Относительно ранних этапов наземных экосистем существуют более или менее вероятные догадки о цианобактериальных продуцентах протерозоя, затем о наземных водорослях и грибах. И те, и другие образуют луговины — маты, которые создают максимально возможный покров хлорофилла из организмов с коротким жизненным циклом.
Организмы, находящиеся на вершине трофической пирамиды (консументы высших трофических уровней), можно рассматривать лишь как индикаторы состояния экосистем, но не как определяющие в количественном цикле углерода.
В результате региональных мегабиологических изменений формируются ландшафтные и литологические зоны, которые прослеживаются в палеогеографии. Такой анализ удается провести для окраин континентов. Осадочная летопись пелагиали океанов не только менее доступна для наблюдения, но и уничтожается подвижностью океанической коры. Континентальные участки земной коры более стабильны, но их внутренние части оказываются объектом денудации. Здесь можно выделить области: низкой суши поверхности равнин и противоположные им горные области со склоном и сравнительно ровными участками пенеплена, бассейны аридной или гумидной седиментации, эпиконтинентальные и шельфовые моря.
В морях характер седиментации позволяет различать: шельфовые терригенные и терригенно-карбонатные моря; платформы карбонатные и эвапоритово-карбонатные. В океане с глубиной сменяются доминирующие осадки — от карбонатных выше уровня компенсации к кремнистым (радиоляриевым илам) и красным глубоководным глинам. Следует отметить терригенные области черносланцевого образования как индикатор анаэробных условий консервации органического материала.
В континентальных областях аридного климата отложения подразделяются на сульфатно-карбонатные, сабховые с красноцветами, эоловые, а внутриконтинентальные — на озерно-сабховые с красноцветами, аллювиальные, эоловые, соленосные с гипсом, собственно соленосные. Влажный климат способствует усиленному химическому выветриванию, образованию формаций: красноцветных угленосных, серо-цветных озерных, латеритов и бокситов, а в областях усиленного выноса — каолиновых, железорудных [3].
Все эти литолого-палеогеографические характеристики ландшафтов возникают как результат биосферных процессов, в которых микробный диагенез (sensu lato) играет ведущую роль и в формировании новых минералов, и в накоплении остаточных продуктов выветривания материнских пород — изверженных, метаморфизованных или же осадочных. В результате действия в экосистемах пары продуцент—деструктор формируются описанные выше области седиментогенеза. В редких случаях из-за недостаточно глубокой переработки первичных продуктов (подавлена деятельность деструкторов) накапливается органическое вещество; типичный пример — образование углей как консервированных тел продуцентов. Обычно цепь деструкции влечет за собой биотически опосредованные изменения вмещающих пород. Каждой области орографического профиля континента соответствует свое микробное сообщество: галофильное в области образования эвапоритов, омброфильное в гумидном климате равнин, алкалофильное в области аридного выветривания.
В геологическом прошлом отчетливо распознается зависимость седиментогенеза от климата и климатических зон. Их распределение модифицируется положением континентальных масс. Например, в перми поднимался суперконтинент Пангея в виде огромного меридионально расположенного блюдца, окаймленного горными цепями. Такое воздымание привело к замыканию и осушению первоначально существовавших эпиконтинентальных морей с образованием соленосных отложений. «Можно полагать, что многие внутриконтинентальные области Пангеи были, по-видимому, в значительной степени сходны с бессточными равнинами типа Центрально-Африканской и Ботсванской, и плато, такими как Центрально-Иранское, Гобийское, Центрально-Аталасское, Высоких равнин Северной Америки, Западно-Австралийской» [3. С. 164]. Если отвлечься от ограничивающих слов, то можно представить актуалистические модели континентальных процессов далекого прошлого. С одной стороны, это пересыхающие внутриконтинентальные моря, подобные современному Аралу или Кара-Богаз Голу, как пример талассофильного солеродного процесса с галофильной микробиотой. С другой — аталассофильные содовые озера внутриконтинентальных бессточных бассейнов с алкалофильной микробиотой Центральной Азии. Аналогом орографического профиля в виде блюдца может служить Южная Африка (Калахари).
Если для некоторых растительных ландшафтов прошлого (например, для тропического климата с сезонно длинными высокоширотными днями и ночами в теплой биосфере мела) найти аналогии трудно, то масштабы микробных сообществ с их коротким жизненным циклом позволяют увереннее соотносить результаты их геохимической деятельности с современностью. В фанерозое следует обратить внимание не только на филогенез растений, но и на филоценогенез растительных сообществ [4].
Вместе с тем для архея-протерозоя интерпретировать разрозненные геологические данные сложно не только из-за отсутствия надежной палеогеграфической основы. Для больших промежутков времени без палеогеографии трудно определить, где последовательно изменялись биота и климат, а где — местонахождение вследствие мобилизма. Глобальные обобщения ограничены из-за заведомо существовавшей климатической зональности, географической мозаичности и иной циркуляции атмосферы и гидросферы. Светимость Солнца и состав атмосферы, хотя бы по отличной концентрации биогенного кислорода, различались. Поэтому уровень актуалистической мегабиологии с региональными обобщениями здесь неоправдан, а действуют только более общие модели [5].
Тем не менее можно считать, что элементарные микробиологические механизмы в прошлом действовали так же постоянно, как действуют химические реакции. Значит, микробиологический подход оправдан для реконструкции раннего докембрия и, видимо, вполне достаточен для реконструкции протерозоя.
Формирование ландшафта
Приоритеты в мегабиологии определяются способностью сообществ формировать ландшафты, как, например, леса каменноугольного периода или современные хвойные леса Голарктики. В морях такое же значение имеют рифостроители — от современных кораллов до мшанок, губок вплоть до строматолитов докембрия. Ландшафт как вместилище биома, состоящего из функционально различных объединенных в систему компонентов — объект экологии в ее научном смысле.
В мегабиологии приоритеты распределяются совершенно иначе, чем в общей, в смысле универсальной, биологии с ее фокусом на немногие примеры — E.coli, Saccharomyces, дрозофилу, хрустальную травку — в расчете получить общие для всех объектов данной категории закономерности. В мегабиологии важно функциональное разнообразие, а не типовой пример. Приоритеты расставляются по масштабу процесса, который, как уже упоминалось, оценивается количественно по резервуарам и потокам вещества. При этом наибольшее значение приобретают наиболее массовые явления, которые в силу их «банальности» остаются на обочине внимания, психологически концентрирующегося на экстраординарном, сенсационном.
В мегабиологии ландшафт — это результат взаимодействия растительного покрова и почвы в рамках географического рельефа. Сосудистая растительность как основной продуцент обладает безусловным приоритетом.
Тот факт, что растение в природе можно рассматривать как консорциум, все-таки вторичен. Для мегабиологии растение с его автотрофной фотосинтезирующей частью, гетеротрофной подземной и проводящей между ними — основной объект. В этом отношении системный подход к физиологии растений оказывается базовым для мегабиологии. Для него необходимо понимание геобиофизики, области, в которой русская наука оставила имя академика М. И. Будыко как зачинателя современной климатологической тенденции. Сосудистое растение — это структурированная система, в которой, скажем, устьичный аппарат значит больше в эвапотранспирационном цикле, чем тонкая гормональная регуляция. В еще большей степени системный подход необходим для мозаичного растительного покрова. Мегабиология при всей возможности упрощения посылок относится к области больших систем. К сожалению, модельеры-системщики плохо представляют, из какого экспериментального сора они строят свои воздушные замки.
Осознать роль микроорганизмов в формировании ландшафта, а не в его функционировании, почти невозможно из-за невидимости агентов. Оценить их роль можно, лишь наблюдая, как образуются многометровые толщи строматолитов, создававших пояса рифов подобно современным кораллам. Микроорганизмы, за исключением подобных редких случаев, не служат эдификаторами-строителями, которых сейчас представляют растения. У микроорганизмов структурная роль невелика из-за их дисперсности. Однако переход от географических наблюдений невооруженным глазом к таким геологическим понятиям, как седиментогенез и диагенез, сразу меняет эмоциональный характер восприятия: микробная биопленка оказывается формообразующей системой.
При геологическом подходе выясняется, что микроорганизмы как прямо, так и опосредованно участвуют в формировании осадочных железных руд, цикле карбонатов, отложении фосфоритов — во всех циклах, перечисленных в начале статьи. Читателю следует заметить коннотационную ошибку, связанную со словом «микроорганизмы». Обычно под ним подразумевают бактерии, а микробиологию — как бактериологию. Но если придать слову микроорганизмы его подлинный смысл, т. е. невидимые простым глазом организмы, то взаимоотношения микробиологии и мегабиологии резко расширяются: в поле зрения попадают протисты-эвкариоты и грибы-микромицеты. Обе эти группы изучаются в рамках других биологических дисциплин, и междисциплинарное взаимодействие с бактериологами здесь гораздо более ограниченно, чем при изучении взаимодействия бактерий и растений в составе консорциумов или же взаимодействия бактерий пищеварительного тракта с животными.
Таким образом, микробиология оказывается базой мегабиологии как по масштабу, так и по приоритету в эволюции.
Работа выполнена в рамках Программ Президиума РАН №16 и 18 и НШ.
Литература:
- Заварзин Г. А. Лекции по природоведческой микробиологии. М., 2003.
- Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России. М., 2007.
- Жарков В. А. Климат в эпохи крупных биосферных перестроек // Труды ГИН. Вып. 550. М., 2004. С. 158–180.
- Работнов Т. А. // Журнал общей биологии. 1994. Т. 55. №3. С.261–270.
- Седиментация в раннем докембрии: типы осадков, метаморфизированные осадочные бассейны, эволюция терригенных отложений // Труды ГИН. Вып. 569. М., 2006.













