Про дирижёра
Анастасия Челпанова
«Квантик» №12, 2013

Сегодня мы идём на концерт, ты не забыл? — поинтересовалась мама.
– Помню, — нахмурился я, — слушать Чуковского.
– Да нет же, опять ты его неправильно называешь. Не Чуковского, а Чайковского.
– Ну Чайковского... И почему сразу неправильно? Сказала бы — не совсем правильно.
– Нет же, совсем неправильно, — настаивала мама.
– Но почему? Я всего пару букв перепутал!
– Дело не в этом, — улыбнулась она. — Чуковский — это совершенно другой человек. Корней Иванович Чуковский — детский писатель, а Пётр Ильич Чайковский — композитор.
– Ладно, — вздохнул я, — согласен на «неправильно».
* * *
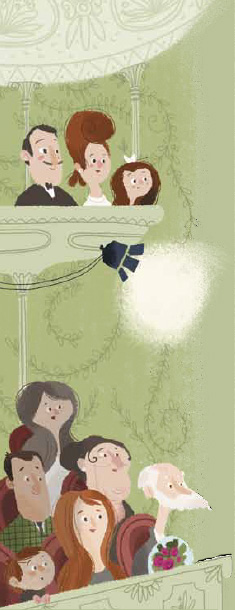
Под громкие аплодисменты на сцену стали выходить музыканты с разными инструментами в руках. Когда они все сели на свои места, вышел дирижёр в строгом чёрном костюме. Он поклонился залу, отвернулся, поднял руки... и вот полилась музыка. Красивые мелодии сменяли друг друга, инструменты играли то по отдельности, то вместе, сплетая из разных звуков музыкальные узоры. Каждый музыкант был внимателен и сосредоточен, каждый исполнял свою мелодию. Одно было мне совершенно непонятно: зачем нужен дирижёр? Он всего лишь беззвучно машет руками. Казалось — убери дирижёра со сцены, и ничего не изменится!
Я дождался антракта и подошёл с этим вопросом к маме.
– Ты, конечно, прав, — неожиданно начала она, — дирижёр сам ни на каких инструментах не играет, но именно он организует звучание всего оркестра. Вот представь, собрались музыканты, каждый взял в руки свой инструмент, приготовились играть... Но как им начать одновременно?
– Пусть кто-нибудь один скомандует.
– Хорошо. Но один музыкант начнёт играть быстрее, другой медленнее. Как быть?
– Надо потренироваться, чтобы получалось вместе, — объяснил я.
– Ладно, — не отступала мама, — они попробовали один раз, другой, третий, а потом кто-нибудь решил, что ему надоело.
– Так не годится, — деловито заявил я, — надо, чтобы все слушались.
– Слушались кого?
– Того, кого они сами выберут.
– Так вот, чтобы не было разногласий и споров, есть человек, которого все музыканты уважают и слушают, — это дирижёр.
Я задумчиво замолчал.
* * *

После концерта мы с мамой шли домой по аллее, освещённой фонарями. И вдруг я рассмеялся, да так громко, что сам вздрогнул от неожиданности.
– Ты что? — удивилась мама.
– Я тут про дирижёра вспомнил. Если он только начало музыки показывает, зачем же тогда всё произведение машет?
Мама тоже улыбнулась.
– Во-первых, он проверяет, правильно ли играют музыканты. Помнишь, перед каждым оркестрантом стояли специальные подставки — пюпитры, а на них лежали ноты. В этих нотах написана только одна мелодия, у каждого своя. А перед дирижёром лежала большая стопка нот, она называется партитурой, в ней записано, что и в какой момент должен играть каждый инструмент. Дирижёр смотрит в партитуру, показывает, какому инструменту в данный момент пора начинать играть, и проверяет, все ли играют то, что написано.
– Должно быть, это не очень просто, — вслух подумал я.
– А во-вторых, дирижёр показывает музыкантам не только «когда», но и «как» нужно исполнить мелодию. С тех пор как дирижёры на концертах стали дирижировать, стоя спиной к залу, был придуман...
– Подожди, — перебил я, — что значит стали дирижировать, стоя спиной... А раньше было не так?
– Да, сначала дирижёры стояли лицом к зрителям и спиной к оркестру.
– Здорово! — засмеялся я.
– Считается, что первым дирижёром, повернувшимся во время выступления лицом к оркестру, был композитор Рихард Вагнер. Дело в том, что музыка стала сложнее, контрастнее и дирижёру необходимо было подсказывать оркестрантам особенности исполнения каждой новой мелодии. Так вот, с этого момента был создан целый язык дирижёрских жестов, он включил в себя специальные движения, которыми дирижёр может общаться с музыкантами прямо во время концерта.
– Что же получается? Мы тут сидим и думаем, что дирижёр просто так руками машет, а он при помощи специального языка незаметно общается с оркестром?
– Да, так и есть.
– Ничего себе! — Я был потрясён. Дирижёр, только что казавшийся мне совершенно ненужным, вдруг предстал передо мной в обличии уважаемого человека, владеющего особыми знаниями.
– На самом деле всё, что он может показать, касается исключительно музыкального исполнения. Он говорит, кому играть тише, кому — громче; показывает, кто отстаёт, а кто торопится; старается изобразить руками и лицом общий характер музыки; может даже отругать кого-нибудь за плохую игру или похвалить за хорошую.
– А если все музыканты его понимают, значит они тоже владеют этим языком? — прищурился я.
– Думаю, да. Этого понимания они добиваются на многочисленных репетициях.
– Я понял,– тихо и задумчиво проговорил я, — вот, значит, что такое репетиция — это тренировка понимать друг друга, общаясь на неизвестном языке!
– Ну, в каком-то смысле да, — неуверенно ответила удивлённая таким выводом мама.












